Студенческие Строительные Отряды МИХМа
ССО "КамаЗ-75"
"Агидель" (бывш."Фортуна") (ТК?)
Камаз 75. Пять линейных отрядов. 3 и 4-ый стояли отдельно, по ним ничего не знаю, кроме названий «Магистраль» и «Ваганты» (мы, само собой, называли их Вагоны). 1, 2 и 5 располагались в лагере «Кама». Кроме них еще Ереванский университет, Щукинское училище и 2 медицинский. Названия отрядов: «Формика»,«Агидель» (командир Усачев Ник., комис. Михаил Шабад (Синицын) и «Кентавр» (командир Родион Верхоломов). (Аналогично, в 1975году 2й камазовский отряд изначально планировался называться «Фортуна», а потом был переименован в «Агидель». Но между собой название «Фортуна» все равно немного фигурировало. Не всем понравилось переименование.) ... По Камазу75 обрывки дополнительных сведений. В отряде Верхоломова работали Сафронова Наталья (Н58 - 79) и четверо из гидравликов (Т54 -79) Жогин Игорь, Кирюхин Владимир, Ибрагимов Шавкат (попросту – Джавдед) и Кузьмин (Не тот Сергей Кузьмин, что был у нас на БАМе в 1976 , а его однофамилец, тезка и одногруппник. Его мы звали Колобок, а того – Черемуха). В отряде Усачева работал Агафонкин Володя, с ним мы впоследствии, после окончания, пересекались, он был большой приверженец михмовской парусной секции. Еще трое, после первого курса ТК: Лешка, Сашка и Валерка, все трое – квартирьеры, фамилий не знаю, но Сашка есть на фотографии группы К56 (79), в самом центре (может быть Макаров, других Александров в списке группы нет).
Место расположения:КАМАЗ,лагерь "Кама"
Время действия-конец июня-середина августа
Объекты строительства
----------------------- Валерий Ронами В стройотряде на Камазе был, даже присмотрел там себе жену с которой живу счастливо до сих пор. -----------------------
............................Список ССО...........................
Из воспомининий Николая Александрова (выпускник МИХМа-1979,группа Н-50)
....
|
Камаз 75. Пять линейных отрядов. 3 и 4-ый стояли отдельно, по ним ничего не знаю, кроме названий «Магистраль» и «Ваганты» (мы, само собой, называли их Вагоны). 1, 2 и 5 располагались в лагере «Кама». Кроме них еще Ереванский университет, Щукинское училище и 2 медицинский. Названия отрядов: «Формика», «Агидель» (командир Усачев Ник., комис. Михаил Шабад (Синицын) и «Кентавр» (командир Родион Верхоломов).
1й отряд. К-дир Перин Вася, комис. Геннадий Снисаренко. Врач – Люба Фролова. Ни мастеров, ни завхозов. Завхоз на все три отряда – Виноградов Владимир.
Список бойцов. Акимов Вячеслав, Алёнов Марс, Алиханов Андрей, Балкичев Николай, Баранов Сергей, Букреев Сергей, Ванштейн Сергей, Воронов Юрий, Егоркин Евгений, Зинченко Владимир, Змейков Александр, Иванов Сергей, Иванченко Николай, Ильин Александр, Ицыгин Борис, Калитеевский Виктор, Картавенков Юрий, Киреев Александр, Ковалев Александр, Козловский Владимир, Копылов Владимир, Кураченков Михаил, Маков Владимир, Маслов Владимир, Пучков Сергей, Рожков Сергей, Савченков Леонид, Тимофеев Сергей, Фролов Виктор, Чуряев Игорь, Ясонов Алексей.
Кажется, не забыл никого.
Повара: Шашкина Ольга, Родкевич Ольга (может и Раткевич, знаю только на слух). И еще три девушки: Андреева Галина, Бардина Вера, Кириченко Татьяна.
Большинство у вас в базе есть, а кого нет, я, к сожалению, не могу раскидать по группам.
----------------------- По Камазу75 обрывки дополнительных сведений. В отряде Верхоломова работали Сафронова Наталья (Н58 - 79) и четверо из гидравликов (Т54 -79) Жогин Игорь, Кирюхин Владимир, Ибрагимов Шавкат (попросту – Джавдед) и Кузьмин (Не тот Сергей Кузьмин, что был у нас на БАМе в 1976 , а его однофамилец, тезка и одногруппник. Его мы звали Колобок, а того – Черемуха). В отряде Усачева работал Агафонкин Володя, с ним мы впоследствии, после окончания, пересекались, он был большой приверженец михмовской парусной секции. Еще трое, после первого курса ТК: Лешка, Сашка и Валерка, все трое – квартирьеры, фамилий не знаю, но Сашка есть на фотографии группы К56 (79), в самом центре (может быть Макаров, других Александров в списке группы нет). Вступление. Слово о стройотрядах и стройотрядниках. Студенческие строительные отряды. Неотъемлемая часть ВУЗов нашего советского времени. Я не оговорился: ВУЗов, а не студенческой жизни. Далеко не каждый студент побывал в ССО, а тем более – прошел их. Но те, кто прошел, никогда об этом не жалели. В стройотряды попадали трояким способом (и даже четырехъяким). Во-первых: по принуждению и из боязни последствий. Во-вторых: за компанию и из любопытства. В-третьих: добровольно, зная куда едешь. И четвертая, забытая было, категория – те, кто ехал в ССО по расчету, с далеко идущими жизненными планами. Кто-то из ребят ограничивался одним сезоном. Но уж те, кто побывал в отрядах дважды, как правило, ехали и в третий раз. Четвертое лето, конечно, лагеря. А затем кое-кто закатывался и на пятый сезон. Влекло ли их что-то, кроме желания заработать? Наверное, каждый ответил бы по-своему. Лично я прошел три стройотряда. Хорошо ли заработал? Да, неплохо. Столько, сколько и можно было заработать. Не срубить, не загрести, не наварить, а именно заработать. Скажут сейчас – невелика гордость!... На вещи можно смотреть по-разному. Для парня моих лет, моего круга – выложить на стол приличную сумму своих, кровно добытых рублей – значило тогда почувствовать себя настоящим человеком. И мне кажется, так оно и должно быть, между прочим, во все времена. Но дело не только в деньгах, дело еще в людях! Весь первый год учебы мне так и не удавалось обрести свой собственный МИХМ, в котором я не чувствовал бы себя чужаком, и о котором без смущения мог говорить кому угодно. И вот в стройотрядах нашел то, чего мне так не хватало во время нашей институтской учебы – серьезных крепких парней, знающих цену себе и цену жизни. Речь не о друзьях, друзья – это единичное, их можно встретить где угодно и среди кого угодно, как повернет счастливый случай. Нет, разговор о среде, социуме, в котором комфортно находится душой; о мирке, которому ты принадлежишь и хочешь принадлежать. А в институте! В аудиториях и коридорах эти ребята были затеряны среди суетных девчонок и нелепых гнусавых преподавателей…. Да уж, из песни слово не выбросишь! Так устроена психика: сохраняются не самые светлые, или темные, а самые сильные впечатления. Ведь нам, органикам, почему-то не доставались лучшие силы кафедр, о которых с вежливым почтением вспоминают потом текашники и криогенщики. Правда, мы переживали об этом гораздо меньше, чем, вероятно думали студенты гордых факультетов. Как говорится, хотите гордиться – гордитесь. Хоть из худших, но лучшие. Все наши носо-задирания остались по эту сторону. А в большом мире - мы все МИХМ без различия пола и возраста. Все «михи», как выражалась в наш адрес одна пожилая сторожиха. Стройотряды же выглядели, как крупный разносортный помол, отсеянный от легковесной пыли бесцеремонным ситом. Сито это и было первым годом, в который попадали все, без разбора. Написал «все», и тут же спешу себя одернуть! Те, кто не боялся и знал, что за него есть кому заступиться, избежали и первого года. С нашего потока, например, к стройотрядам и близко не подъезжали Оля Флорина, Слава Ким, Шура Филимонов, Миша Москвин, Марина Беленова… Кто знаком с преподавательским и прочим составом михмовского многоэтажного муравейника, сам без труда переберет нужные фамилии. И убедится, что как правило, так и было. И исключения подтверждали правило! Например, Александр Ильин, наш товарищ по Камазу и Воскресенску. Сын прапорщика с военной кафедры, о котором впоследствии так тепло рассказал Дмитрий Зыков. Не упомянул только о его характерных прозвищах. Называли Николая Александровича «Солнышко» и «Батя». Так вот, сын этого самого Бати работал с нами рука об руку, и хорошо работал. Поясню лишь, что я имел в виду под исключением. За Камаз Саша Ильин неплохо получил, что у его собригадников, знавших, как и все мы, методику подсчета (мы не раз и не два прикидывали, по скольку же нам выйдет) и фактическую наработку по бригаде – легкое недоумение. Как так? Всех постригли, а про одного забыли? Оказалось, Александра выручила одна фраза из его письма домой: «Заработаем мы за месяц рублей по двести, а если штаб не зажмет, то по триста». Нет, Ильину не подкинули лишнего, по блату, он получил столько, сколько и должен был получить за свою работу… Сколько получил бы и любой из нас, будь у нас папа – прапорщик на кафедре. Раздел 1. Труд. Итак: Камаз75, БАМ76, Воскресенск 77…. Мне и моим товарищам достались суровые отряды. Ни Вася Перин, ни Витя Сорокин, ни Анатолий Георгиевич Ряузов мягкостью характера не отличались. Отличались подходом к поставленной задаче. Васька гонял всех в хвост, и в гриву лично, ежедневно и бесцеремонно. Одновременно мог сам встать с лопатой к бетономешалке и горбить со всеми до самого обеда. Сорокин был вежлив, но тверд и самолюбив. Воспитывал на наглядных примерах, публично карая собственный штаб. Изгнал завхоза Кулешова, добился исключения врача Лены. Парадоксальным было наказание для непокорных – отстранение от работы. Но действовало. Отряд состоял исключительно из добровольцев – новобранцев не было. Все знали: не поработаешь – не заработаешь. А там и турнут, следом за завхозиком. Ряузов же был не столько суров, сколько беспощаден. Его боялись. Знали – не помилует! Напрягала и дистанция, на которой он всегда держал бойцов. Он никогда не вел ни личных, ни коллективных бесед. Сухой протокол. И расправы были не воображаемые. Из отряда вылетели Пушкин, Глухов, Захаров. Даже помилование Карася не смягчило ситуации. А гонять причины были. Начнем по порядку, с Камаза. Быстро прошли первые развеселые дни. Особенно первый, когда все вышли, как на субботник. Без бригад, всем отрядом разом. Выданные нам из резерва Камдорстроя лопаты только насмешили. Назвали их «пионерскими», а были они своей металлической частью вдвое длиннее и в полтора раза шире стандартных совковых. «Сачковых» - так мы их стали называть. Прочухал ситуацию только опытный Витька Фролов. Моментально добыл в какой-то куче мусора обычный совок, перенасадил и, хотя дальше пахал, как зверь, к концу дня остался в норме. Остальные до поры до времени только хихикали. Задача была – очистить проезжую часть новой улицы от чернозема, нагребенного на асфальт после отсыпки газонов и основательно укатанного. Наш 1 линейный отряд растянулся по всей улице. Швыряли в кузова самосвалов, таскали носилками. Солнце жарило вовсю. Пыль, пот, чернозем. Когда садились в автобус, ехать на обед – выглядели как черти. Но вот появился Боря Ицыгин. Его встретил дружный рев восторженного изумления, так пропылиться и перемазаться не удалось никому. В автобусе было жарче, чем на улице, это добило. На полдороге все уже молча тяжело сопели. Пришлось Ваське, в обход запретов, направить автобус к пруду. Только окунувшись, народ ожил и мог спокойно орудовать ложкой. А погрузка после обеда, сразу из-за стола в автобус, красноречиво намекнула, что всё развлечение кончилось. Улицу чистили три дня. Думалось, будет же ей, проклятой, конец. Вот тогда разделимся на бригады, как-нибудь всё войдет в норму. Наконец, точка. Первая радость – закончили и объект, и рабочий день на 2 часа раньше (в 18.30). Дотянули, выдержали испытание. А испытание-то было впереди. Разошлись на следующий день бригады по объектам. Бригада Змейкова - установка парапетов, дорожных знаков (стальных столбов в котлованы 2х метровой глубины). Бригада Ицыгина – отсыпка и укладка бетонной «плиточкой» (1м х 1м) конусов – скатов вокруг опор мостов и эстакад, установка бордюра. Бригада Ковалева – обустройство подземных переходов – бетон, асфальт. И особый разговор о бригаде Киреева – их объектом была знаменитая Яма. Сейчас я бы ее назвал отстойником ливневого коллектора всего микрорайона. Яма – бетонный подземный куб метров по 6 в каждой из сторон на 2/3 была забита жидкой грязью. Требовалось вытащить вручную всю грязь и потом кем-то будут установлены насосы. Вероятно, можно было сделать наоборот: по методу земснаряда, чем-то перемешать с водой и откачать насосом пульпу. Но зачем, когда есть студенты. И ямной бригаде выдали ведра, веревки и доски (чтобы можно было стоять в Яме и не засасывало). Такая уж техническая задачка. У Змейкова оказалась своя техническая проблема – вырой- ка лопатой узкую двухметровую ямку! Что первые полметра приходилось зачастую пробиваться через бетон, раствор, битый кирпич, или просто сложенные друг на друга бордюры – мелочь. Ломом пробьешь, помучешься – а вот дальше как? Змеёвской лопатой! Что это? Обычная штыковая лопата, вместо черенка приваренная к 2,5 метровой трубе. И вторая такая же, но согнутая пополам на манер мотыги. Чтобы вытаскивать из ямы землю… У Ковалева и Ицыгина обошлось без новейших приспособлений, ворочай и ладно. Одна мелочь относительно подземных переходов. Прежде чем дойти до асфальта или бетона, требовалось расчистить место от мусора. Строительного! Кирпич, бетон, земля, доски, да еще всё перепутано проволокой и арматурой. Хочешь – ковыряй ломом, хочешь – лопатой, хочешь - выдергивай, что выдернется, руками. Лопаты пионерские к тому времени уже обрезали в длину до нужного размера, но ширина-то их никуда не делась, да еще с зазубренными краями. (Автоген – не болгарка). Вот и бывало, загребешь лопатой, подымаешь из кучи, а она широченная да неровная, как зацепится за какую-нибудь гадость. Кувырк и всё высыпалось! А куча цела, машина за машиной, и всё вроде не уменьшается. Но мусор, так или иначе, заканчивался. Асфальт! Правда, прежде чем его класть, требовалось вымести площадку из плит до блеска. Два дня мели, скребли лопатами. А ветер степной, город пыльный, да кругом стройка. Как дунет – мети снова. Пока не пришел компрессор, который сдул все в полчаса, до укладки асфальта не могли добраться. Но и добрались, не обрадовались. С первого дня в Набережных Челнах стояла жара. Но пока весь отряд работал длинной полосой, а все-таки в одном месте, с питьем проблемы не было. Выдали от Камдорстроя металлический заплечный термос. Прогуляешься, но попьешь. Но вот бригады расползлись, и стал термос переходящей игрушкой. День пьешь, три облизываешься. Фляг ни у кого нет, ехали не в чистое поле, а в город. Да и что там фляга на такой жаре. Так и маялись, пока хитроумный Ясончик не свинтил с какого-то краника маховичок. Берёг, носил его в кармашке у сердца. Теперь стал доступен городской водопровод, но вода в нем была – бр-р. Так вот, жара еще не была жарой, пока не привезли асфальт. Вот тут началось пекло. Горели подошвы, горели глотка и ноздри. Закроешь глаза и видишь, почти воочию, прозрачная, булькающая, фонтанирующая вода. Навязчивое видение. Тяжко, но это было пока наверху. Когда стали асфальтировать под землей… Мерзкий запах, пот на глаза, ничего не видно кроме густого пара, и где-то вдалеке – пятном лампочка. Как-то, таща носилки, я шмякнулся головой об верх проема. Не видел, кто подхватил носилки, ноги сами вынесли наверх, на воздух. Отлегло… Отлегло, так вперед, готовы новые носилки! После дня такой работы Маслов ночью кричал во сне: «Задохнетесь, отходите к реке!» и добавлял что-то по-английски. Другим доставалось не меньше, каждому на своем месте. От разговоров, что что-то надо делать не так, Васька приходил в бешенство. А Генка, комиссар, только приговаривал: «Вы за чем приехали? За туманом?». Да, Перин был бесхитростно груб, но при этом открыт и по-своему простодушен. Снисаренко, это было видно, злей и гораздо опасней. С ним требовалось держаться настороже. Недаром Козлевич напевал: « Жить Вася Перин не дает, жить Вася Перин не дает, а Снисаренко уж – снимает пояс…». (На мотив тети Нади). Чем труднее было ворочать, тем больше они нас подгоняли. Стало страшно просыпаться. Васька всех расталкивал с матюками. Быстрее, никаких линеек, раньше других отрядов на завтрак, и работать, работать. Едешь в автобусе, а мысль одна – неужели сейчас уже доедем? Чем же всё это кончится? Конец наступил разом, две трети отряда свалилось в дизентерии. Дня за два до того прошла гроза с ливнем – перемена погоды, которую все так жаждали. И началось. Где-то что-то подмыло, обрушился водопровод. Лагерь «Кама», где мы жили в палатках, сел на привозную воду. Затем случился аврал в бригаде Ицыгина (ежедневная наша работа допоздна и без выходных авралом не считалась). А тут было что-то срочное; им вывалили три последние машины бетона в самом конце дня. Сидим, подходит автобус. Только разместились – «Борька зашивается!». Довезли до них, все хватают лопаты и вперед. А автобус за следующей бригадой…. Короче, закончили, когда уже светили звезды. Приехали, в лагере попить нечего, умыться и не спрашивай. Танька Кириченко сидит за ужином, а пальцы в белой краске! Ночью обозначились первые подстреленные, у одного, другого, третьего пошла дикая рвота. И слабость. Человек не мог подняться, выбраться из палатки, его выворачивало тут же, у кровати. Поставили ведра, пошла в ход хлорка. Резко освободили одну палатку, заболевших перебросили туда. Утром обозначилось, что перевели не всех. У меня, например, рвоты не было, но как пробудился, попробовал встать – завертело, зашатало, перед глазами зайчики. Короче – в тот же изолятор. Дело, конечно, было не в дизентерии. Я, кстати, знал по детским воспоминаниям, что это за болезнь – и не верил. Чтобы так: неимоверная слабость, галлюцинации, голова в тумане. Боялся, что у нас холера. Поговаривали в то время о ней глухо уже второй год. А состояние было - представить тошно. Зовет, к примеру, Егоркин с соседней кровати: «Дай ведро». Смотрю, не понимаю. «Да вон, у Ильина!». А кто такой Ильин?! Пока пытался собрать мысли – готово дело! Ведро больше не нужно, уже вывернуло. На следующий вечер - колонна «Скорых помощей». От обычных советских до каких-то огромных, ненаших. Говорили «Мерседес». Первыми вывезли изолированных. Но пока сидели в приемной больницы, «Скорые помощи» все прибывали и прибывали. Пополнили нас теми, кто с утра вышел на работу, а свалился уже днем. Так вот, о дизентерии. Первые двое суток в больнице я, как и все остальные, проспал. Просыпались на завтрак, обед, ужин и снова вповалку. А, встав на третий день, я убедился, что нет у меня ни слабости, ни головокружения, ни поноса. Кончилась дизентерия! Но держали положенных две недели. Таблетки, которые нам выдавали горстями, я, правда, потихоньку прятал в наволочку. А, по большому счету, требовалось нам всем не лечение, а хороший отдых. Но отряд не исчез, Васька Перин, уж не знаю с чьей помощью, продолжал числить на работах полный состав. Хотя выходили единицы, уцелевшие. Уцелели не самые сильные, а самые разумные, сумевшие сберечь часть сил и для себя лично. И дальше заработало то самое жесткое сито. Не все, приходившие из больницы, возвращались в бригады. Не все из уцелевших намерены были работать до конца. Беспрецедентный мор сменился беспрецедентным отливом. Если в какой-то момент работала треть отряда, после возвращения всех – осталась половина. На оставшихся легла вся работа. И произошло странное – сразу стало легче. То ли приноровились, то ли дожди, грязь и холод легче жары. А может быть в нашем СУ на всех стало хватать приличной сносной работы. Ведь дрянь и мусор мы больше не ворочали. Даже на Яме дело пошло веселее. Те ведра, которые и зачерпнуть тяжко, и вывалить, вытряхнуть – задача для мощных рук и плеч – были оставлены. Грязь поднимали в бадье воротом, сразу вываливали на носилки и оттаскивали. Уже показалось и дно… Да видно не судьба! Рванул особенно сильный и затяжной дождь, и грязи за одну ночь нанесло столько, сколько не было и в начале работы. Круг замкнулся. Впрочем, и лето, и работа шли к концу. Васька носился по Челнам, искал выгодные работенки. О бригадах уже не вспоминали, работали мелкими группами. Нашу бригаду, бригаду Ковалева, по уезду милейшего бригадира Саши вообще аннулировали. Из больницы я вышел в бригаду Змейкова. Бригаду! Кроме меня там были Пучок и Марс. Через пару дней выписался Мишка Кураченков. Но вчетвером мы проработали только до конца недели. С понедельника я был переброшен в бригаду Ицыгина, выламывать и переставлять на новое место гранитный бордюр. От Борькиной бригады остались только бригадир и название: на бордюре кроме меня работали Баранов, Ясончик и Мак. Мак от Змейкова, остальные – ковалёвские. А оставшиеся бойцы Бориса – Козлевич и Штирлиц (Картавенков), вместе с нашим Сергеем Ивановым – клали плитку на другом, дальнем переходе. До кучи, для количества, в каждую из таких групп добавляли девчонок, какую-либо из трех (как мы говорили, «трех лошадушек»). Иногда Васька снимал и поварих. Получил такое право, после дизентерии его еще назначили командовать и лагерной кухней. Васька говорил: «Их там на кухне до .уя, им там не′ .уя делать». Поварихи были на ставке, их писали под чужими именами (убывших, но еще числившихся бойцов). По-моему, эта наивная ловкость совсем не пригодилась, наряды закрывались другими методами. Теми, что велись от веку. Последний объект, выпавший мне на долю - укладка все той же плиточкой (метр на метр) двора жилого дома. Дорожки, площадки. Старший – Гаврош (Букреев), так как Яма к тому времени уже лопнула. И три бойца: Савченков, Баранов и я. Инструмент – штыковые лопаты и крючья. Работали мы там неделю. Красота! К тому же Васька как-то очень удачно закрыл нашу работу. И погода устоялась, стало теплее, выглянуло осеннее солнце. Обедали в городской столовой. В первые дни брали только алюминиевые ложки, на третий кто-то догадался взять и вилку, а в последний – Гаврош показал нам всем и затем демонстративно помешал в стакане чайной ложечкой. А не черенком, как мы до этого поступали. Это было уже признаком скорого возвращения к цивилизации. В БАМовской тайге, в отличие от Камаза, подсобной работы не требовалось. Раздел 2. Быт. В своих самодеятельных песнях мы, как нам того и хотелось, называли себя первопроходцами. Конечно, в каком-то смысле, каждый строитель – первопроходец. Приходит на нетронутый, а то и загаженный пустырь, оставляет же после себя вполне пригодное здание, вдобавок еще и благоустроенное. Но настоящими первопроходцами, пионерным десантом в дикий и тем более суровый край стройотряды не были. Во всяком случае, МИХМовские моих лет. И это очень хорошо. Не хватало еще бросать зеленых юнцов в экстремальные условия. Достаточно того, что они шли туда, где некому было взять на себя всю тяжесть и грязь не самой привлекательной работы. И ни к чему было усугублять тяжелым бытом и без того нелегкую долю стройотрядовца. Надо отдать должное всем трестам и различным строительным управлениям, под флагами которых мы работали. Нас не заставляли спать вповалку на земле и питаться подножным кормом. Мы жили в палаточных лагерях – то есть временных сезонных поселках с минимумом удобств, но минимумом твердым. Не знаю, кто строил лагерь «Кама», наши предшественники – студенты или настоящие строители. В моих глазах именно этот лагерь представлял собой тот достаточный минимум : три ряда палаток, поставленных на деревянные каркасы, с настеленным полом и дощатым тамбуром (предбанником). С наружи предбанника, у каждой палатки, навесик и столик со скамейкой. Бетонные дорожки вдоль палаток и к местам общего пользования : туалету, типа сортир, холодной душевой, кухне. Для кормежки подобие полевого стана – ряд столов со скамьями под навесом. И даже центральный плац для линеек, и на нем несколько высоченных мачт. Наши соседи по «Каме» - ереванцы, втормедовцы (МОЛГМИ) и «щучкины дети» (из Щукинского театрального училища) вполне удовольствовались полученными в лагере благами. Армяне, правда, добавили телевизор, смотрели чемпионат по футболу. И как на смех, именно в это лето победил «Арарат». Ох, и шуму было на их половине («А вот она какая Армения моя!»). Но МИХМ посчитал, что в лагере «Кама» кое-чего не хватает. Во-первых построили три курилки (по одной на отряд). Во-вторых – пригнали три вагончика. Два из них заняли штабы отрядов, третий пошел под медпункт. Дело, бесспорно, хорошее, нужное. Правда, маловат оказался вагончик; случилась дизентерия – под изолятор пришлось освобождать целую палатку. И, в-третьих, когда наш первый линейный уже скреб улицу, два других отряда задержались на день в лагере и в числе прочих мероприятий возвели монумент. Вкопали мощный телеграфный столб, сверху приколотили площадку, а на нее – ярко раскрашенную тачку. Вокруг этого столба потом разыгрывала представления агитбригада, в основном люди из пятого отряда Верхоломова. Из нашего Васька Перин бойцов в агитбригаду не давал, а что представляла собой самодеятельность 1го линейного, я опишу в третьем разделе. Тут стоит упомянуть, как нам случилось увидеть образцовый лагерь, так сказать, студенческий «Артек» камазовского образца. Где он находился – сказать не могу, прогулок, а тем более экскурсий мы по городу не совершали, я до сих пор смутно представляю географию Набережных Челнов. Мы втроем : Воронов, Козицкий и я, еще квартирьерами, приехали в этот лагерь на денек, якобы чуть-чуть что-то подправить и разнести кровати. В «Каме» по предварительным оценкам не хватало на всех палаток. Оказалось, что палатку в этом шикарном лагере нам никто не приготовил, под нее еще надо было, как минимум, соорудить каркас. Мы потолкались там часок, со своим молотком и рукавицей гвоздей, и, в конце концов, уехали. (В штаб к Тимонину, где доложили, что выполнить задание не видим возможности). Но лагерь разглядеть успели. Особенное впечатление он произвел на Ковалева, так же оказавшегося в тот день в высадившей нас машине. Чем же он отличался от «Камы»? Дорожки, но с бордюрами, выкрашенными в два цвета. Палатки все новенькие, а не выцветшие с позапрошлого лета. Наши дважды перезимовали под снегом. Не сухая трава, а подстриженный газон. То ли местность там была влажнее, то ли его поливали. Кругом, на палатках, на столовой – флаги и красные полосы транспарантов. И по периметру ограда: ровный штакетник из струганных, крашеных реек. Наш-то лагерь был открыт прямо в степь, вернее в Сабантуйское поле ( о нем тоже в 3м разделе). Полагаю, что заслуживающим внимания отличием в том «Артеке» была горячая вода в душе. Но не ручаюсь! Это сейчас мой искушенный глаз разом бы выхватил трубу котельной, но тогда я мало что знал о подобных вещах. Одним словом, тот же палаточный лагерь, но тщательно припомаженный. Но Ковалев, как только вернулся, сразу принялся за флаги. Циник и себялюбец Юрка Воронов высказался по этому поводу: «Саша после того лагеря готов яйца красной краской выкрасить». В общем, так мы жили в палатках, значительно уступая по бытовым трудностям воспетым геологам и целинникам. У всех были вполне годные пружинные кровати, по всем правилам застеленные, а на Камазе даже и тумбочки. Следует заметить, что Камаз, конечно, представлял более обжитой регион. А в 1975 году, в канун пуска автозавода, он вообще кишел стройотрядами со всей страны. Другое дело – БАМ. В 1976 до победного костыля было еще далеко, и, кроме того, никакое, даже теоретически возможное скопище студентов не могло бы заполонить его огромную территорию. Поэтому лагерь отряда «Магистраль» стоял вдали от всего. Исключение - 4 домика Второго Разъезда и передвижная база путейцев-улькановцев. Шутя мы называли их «конкурирующая фирма», но на деле бегали за всякой помощью. Мужики там были крепко пьющие и крепко работающие – живой советский парадокс в полной красе ежедневного воплощения. К нам же ко всем они попросту обращались «Саня», и не просто так – в отряде каждый третий был Александром, во всех сочетаниях. От Александра Ивановича до Александра Леонардовича. Даже два Александра Александровича (Целиков и Фролов) за такое упорство в имени наименованные Сын и Внук. Лагерь на нетронутой лесной опушке был, таким образом, полностью построен силами квартирьеров и подоспевшего следом отряда. Он стал бесчисленным повторением БАМовских и Камазовских лагерей с палатками, мачтами и сортиром. И даже, в отличие от «Камы», столовую выстроили не навесом, а в виде большой открытой веранды. Это было очень хорошо, так как БАМовская мошка, в отличие от Камазовских ос, не любила закрытого неба и не шибко нас донимала во время завтраков, обедов и ужинов. Итак: три палатки веером (каждая смотрит дверью на столовую), центральная курилка, фонарь на большом столбе, на всгорке неизбежный штабной вагончик. И даже дорожка, та самая несчастная дорожка, которую мы мостили битым кирпичом в компании с Конопатовым. Дорожка, как и все показное благоустройство, была инициативой комиссара Миши Латыпова (он хороший человек, и не на том будь упомянут). Мы колотили кирпич на каком-то брошенном фундаменте (или просто свалке) обухами топоров и потом отсыпали на кратчайшем пути между будущей столовой и будущей курилкой. Замостили от и до, а вот укатать кирпичные осколки было нечем. Трамбовать же вручную идеи никто не высказал, зная, какое последует воплощение. Так и осталась полоска битого кирпича, а вдоль нее, с двух сторон, плотные утоптанные тропинки. Если же кто вступал ненароком на эту кирпичную дорожку, особенно в кедах, тут же стонал или матерился от боли в ступне. Это было не то, что пройти по битому стеклу, но чем-то похоже. Мачты и флаги – особая тема. Может быть, кто-то в высоких штабах и желал, чтобы день в его ОССО начинался с поднятия флага…. Не знаю, но на самом деле начало дня в стройотрядах знаменовалось выкриками бригадиров и командиров, требующих печатно, а чаще непечатно, чтобы вся эта ленивая кодла наконец поднялась. Дальше недружный выход, развод на работы, нагоняи и втыки за вчерашние грехи. До флага ли тут с горном и барабаном? Но мачты ставили, и флаги поднимали. Я уже упоминал, что в лагере «Кама» стояло четыре мачты. И все на манер падающих башен, каждая в свою сторону. Одну мы, квартирьерами, завалили и поставили наново. Не очень прямо, но как сказал Санька с ТК, «по сравнению с другими, она вообще снегурочка». И подняли флаг – несчастную красную маечку Сергея Алейникова. Так она и болталась на ветру до приезда отрядов. На БАМе требовалось поднять целых четыре флага, по числу дружественных стран, представленных в ССО. С польским и чешским было проще – их сшили из советских, с кусками простыни впридачу. А вот для венгерского требовалась зеленая полоса. Ее комиссар Миша решил промазать зеленкой. Через пару недель эта полоска побелела, и чей стал флаг – непонятно. Впрочем, наши иностранцы смотрели на это весьма здраво, без международных обид. Более того, когда поляков спросили, как правильно укрепить польский флаг: так или вверх ногами, они только переглянулись. К счастью, комиссар был в курсе и повесил правильно. Как это кому не покажется мелким, гораздо чаще среди бойцов обсуждалось, не как висят флаги, а что сегодня на обед. Не знаю, насколько она стара, но в наше время бытовала такая присказка: «За едой говорят о женщинах, за работой об еде, а с женщинами – о работе». А так как в любой день работали мы дольше, чем ели, то, уж поверьте, о женщинах говорили до невероятия мало. Зато с каким вожделением вспоминали! Кто-то шашлычок и отбивную котлетку, а в основном – или булочку, обильно намазанную маслом или жареную картошку. Ароматную картошечку, целую сковородочку! Из этого легко сделать верный вывод – кормили нас весьма не жирно. Чем Камаз был лучше БАМа или наоборот? Попытаюсь ответить. Не могу огульно похаять кухню лагеря «Кама», готовили там разнообразно и, в общем, питательно. Недаром верхние штабисты любили заезжать к нам подхарчиться. Чаще прочих – тэбэшник Гудков, хотя, как мне думается, получали они там в штабе всякие кормовые и суточные. Но вот не нравилась ему чем-то городская столовая, или, может быть, ресторан? А нас, рядовых бойцов, преследовала одна, но существенная беда – маленькие, неглубокие тарелочки и соответствующие порции. Без всякой добавки. Категорически! Всегда ссылались, что не все еще пообедали или поужинали. За завтраком же сам Васька засиживаться не позволял. Наедались, наверное, только те, кто (вроде Тишки) не дотягивали в собственном весе до 60 килограмм. Командор (Киреев) с тоской вспоминал армейский рацион. На БАМе всё обстояло наоборот. Один отряд в лагере, своя кухня, свои повара. Хлеба можно было взять, сколько влезет в обе руки, а каши – хоть миску, хоть тазик. (Я не сочиняю для красного словца. Однажды, после задержки на объекте, мы с В. Калитеевским съели за ужином на пару именно тазик манной каши. То есть всю кашу, которая еще оставалась на кухне.) Но я опять повторяю – «каша», и опять повторяю – «манная». Белая – белая. Могу даже начертать наше меню – тоже белое. Завтрак – манка, обед – суп-лапша и на второе рис, ужин – макароны. Кто не понимает – поясню, просто макароны, на воде. Ирка Люлина, одна из поварих, на вопрос «С чем?» отвечала «С таком!» Любое цветное блюдо вызывало ураган эмоций: пшенка – радость, овсянка – наслаждение, гречка – восторг, гороховый суп – обалдение. Пытались ли мы протестовать по такому существенному вопросу (по кормежке обычно проходило первое голосование на первом всеотрядном собрании)? Ведь питались-то не на дядины, а на собственные деньги. Можно сказать – «нет», хотя Змей однажды вспылил, увидев, как Гудкову наворотили полмиски мяса. Он предложил послать столовую к черту, затребовать деньги и питаться по своему соображению. Дело не пошло дальше разговоров, хотя Гудков не стал больше торопиться пообедать первым. И только, когда съехало пол-отряда, мы начали получать сносные порции, а некоторые даже прибавили в весе. Может быть, и наш Василий Федотыч чему посодействовал, он же ведь теперь командовал и столовой. На БАМе было проще, злодея знали в лицо. Все костерили завхоза Кулешова. Бамовцы-повторники вспоминали своего великолепного Юрина. Коля Иванченко вызывался пожертвовать собой – избить завхоза до полусмерти. Наконец, Кулешов надоел и Сорокину. В одночасье всё было решено… Дела Кулешова принял Александр Юрьевич Шкаф. Каким он был завхозом? В общем, не хуже Кулешова, во всяком случае, не бывало случая, чтобы он в пьяном виде не мог на четвереньках взобраться к штабному вагончику. В рационе стало больше овощей, появилась картошка. А каша? Каша, она и есть каша, куда от нее денешься. Не говоря уже про макароны. Вкратце скажу и про Воскресенск. Жили мы там в школе, занимая несколько классов. Спали в тепле, питались в городе. Правда, тамошнему школьному туалету некоторые из наших (никаких фамилий!) предпочли бы деревянный «скворечник» над выгребной ямой. А так, завтрак и обед в неоднократно руганных советских столовых ни разу ни у кого не вызвал никаких эксцессов. Конечно, поддерживало и то, что на воскресенья мы неоднократно ездили по домам. Единственное, что было пущено на свободную инициативу – ужин. Кто-то ужинал побригадно, мы – комнатой. В нашей комнате преобладали «молодые» - не старше третьего курса. Старших только двое – Васильков и Пушкин. Но так как Пушкина скоро выгнали из отряда, засилие «молодых» стало категорически преобладающим. Васильков однако, неплохо с нами ужился. Заметно было, что он как-то мудрее, житейски опытнее; тем не менее, сам по себе, был он очень веселым парнем, мастером рассказывать анекдоты. По одному анекдоту про смелого, стойкого октябренка, лихо рассказанному Васильковым, мы стали называть его – Орленок. То есть самый старший получил прозвище, казалось по своей сущности предназначенное для самого молодого. Наши Воскресенские ужины были пиршествами! Разумеется не по меню, а по сценарию и регламенту. Старт задал Саша Ильин. Ведь первые день-два прошли почти в сухомятке по углам. И Ильин высказал (но его мало пока кто слушал), что надо делать запасы. И вот, в первый голодный вечер вдруг выложил свой запас – большую банку консервов. Ее сожрали под восторженный благодарный рев. Урок усвоили. В понедельник притащили из дома, кто что смог. В основном – банки консервов, кроме них пирожки с булочками, вареной курятинки, рыбу сушеную, сало. Венцом благополучия стал электрический чайник Савушки (Вити Казакова). Теперь по вечерам, после тяжелой работы, мы не спеша рассаживались и часа два под смех и оживленный трёп блаженно ужинали. Чайник кипел не переставая, запасов было на всю неделю…. То, что нам полагалось от бригад, в счет фондов на ужин, шло на тот же стол. Эти вольные беззаботные вечера сильно примиряли нас с нелегким климатом в отряде. Случалось, что к нам на чаёк заскакивали и из других комнат. Чаще всех бывал Еремей – кучерявый шофер Сашка Еременко, тоже большой шутник и балагур. Ужин наш его не интересовал, он четко ограничивался стаканом чая. Зато почесать языком – тут, как говорится, хлебом не корми. Может быть, причина была в нашей молодости, может быть в сходстве еще не разошедшихся в разные стороны биографий, но за два месяца ежедневных вечеров у нас не наметилось ни одного конфликта или разногласия. Хотя никто не подстраивался под вкусы других: Савушка любил глодать косточки и грыз какую-нибудь весь вечер, Варила-Зимин запаривал свой густейший «чефир», Серик не признавил свинины и вздыхал по жеребятине…. Кто-то больше отмалчивался, как Черемных или Ильин, кто-то старался все время быть на виду, как Кротик (Сашка Кротов). Васильков время от времени разражался убойным анекдотом. И дружный хохот соединял всех в одну компанию. Даже резкий Емеля, заглянувший однажды на огонек, лишь слегка подшутил над уже сидевшим у нас Мальком. Наверное пора вообще рассказать, какие у нас были внутренние взаимоотношения. Ведь не только Емельяненко был задирист и конфликтен по натуре. Юрий Катков, мой бригадир, тоже отличался нелегким характером. Весьма необщителен и высокомерен был приятель Василькова Серега Трутнев. Встречались и такие мальчики, которые не показывали клыки всем и каждому, но всегда держали их наготове. Я имею в виду, например, Вову Талдыкина или того же Кротика. Их мелкие подначки порой кололи больней откровенной грубости. И конечно, не нужно забывать про Намоконова, который вообще был Ряузов в миниатюре… На Камазе в 75 году таких ребят тоже хватало. Юрий Картавенков, кем-то и почему-то названный Штирлицем (как ни странно, это прозвище сохранилось до пятого курса). Тот же любезный Ковалев, всегда помнящий, что он – человек непростого лица. Ехидный Ван, грубоватый Серега Баранов. Но особенно резок и непримирим был Змей, очень непростой по характеру Александр Змейков. Он, как оборотень, в течение получаса мог явиться и веселым, и злым, и снисходительным. Из БАМовских в этом плане стоит упомянуть вспыльчивого Игоря Камалова (Кальмар), ершистого Витю Шулепова. И особенно неуживчивым характером отличался Кострома. С ним отказывались водить компанию и «старые» (БАМовцы 1975 года) и «новые». Если посмотреть непредвзято, список получился невелик. Эти люди не определяли атмосферу, а только добавляли в нее раздражители, вроде таёжного гнуса или камазовской пыли. Тон задавали парни лояльные и компанейские, каких было бесспорное большинство. И посему не происходило самого отвратительного: заискивания слабых перед сильными и унижения сильными слабых. Именно таким запомнился мне общий дух стройотрядов. Но это, конечно, не значит, что при разговорах все чопорно расшаркивались и раскланивались. Шутки, шуточки, подковырки сыпались на каждом шагу. Важно, что они никого не обижали, точнее сказать, не ранили самых чувствительных областей души. Даже прозвища сплошь и рядом походили на почетные звания, что-то вроде индейских «Быстроногий олень» или «Могучий буйвол». Не было ничего похожего на дворовые клички, скажем такие как Сопля, Фитиль, Вонючка, Лысый. И вообще, звучали прозвища чаще за глаза, обращаться друг к другу мы предпочитали по именам. Только отдельные лица в силу собственных пристрастий не давали некоторым прозвищам отмереть окончательно. Самым большим любителем прозвищ был, несомненно, Володя Буканов. От него мало отставал Козловский, он даже пробовал их выдумывать. Выдумки эти, увы, почти не приживались. По моим наблюдениям, прозвище всегда возникает спонтанно, разом, как вовремя брошенная острота. Забывается даже, кто первый его произнес. Точнее, находится несколько претендентов. Гораздо чаще в повседневном обиходе бытуют усеченные или видоизмененные фамилии. Так было и у нас: не Козловский, а Козлевич; не Костромов, а Кострома; не Змейков, а Змей; не Буканов, а Букаш; не Еременко, а Еремей или Ерёма. Митронова, к примеру, не чаще называли Боцманом, чем просто Митрон. При этом случалось, что усекалась фамилия очень сильно: Крош из Крашенинникова, Ван из Вайнштейна. Но был и уникальный случай, когда человек пытался сам ввести в обиход обращение к нему по прозвищу. Речь, конечно, все о том же Пушкине. Хоть Саша Пушкин и сам по себе был очень даровитый, безусловно даже талантливый (он прекрасно рисовал), но, похоже, хотел пользоваться не меньшим уважением, чем его великий тезка. Поэтому довольно быстро он сказал нам, что прежние приятели называли его Ас. Вообще-то многозначительное сочетание. Героическое; при этом одновременно вызывает ассоциации и с главным русским классиком, и с самой сильной картой в карточной колоде, и со скандинавскими богами…. Но нам оно почему-то не глянулось, а Ильин быстро парировал: «Давай, мы будем называть тебя – Пан». (То есть – Пушкин Александр Николаевич.) Трудно даже представить, какое кислое выражение появилось на лице Пушкина. Что до меня, так сама его фамилия заменяла любое прозвище. Было, пожалуй, в названных мной отрядах единственное прозвище, которое приклеилось к его носителю намертво. Все знали, кто такой Гаврош, но мало кто помнил, что его имя Сергей Букреев. Правда, прозвище своё он принес в стройотряд из институтской группы, а, получил, кажется, еще в пионерском лагере. Конечно, трудно судить издалека. Может быть, мало кто вспомнит, что Поручика, например, звали Слава Лебедев. (К нему обращались только – «Поручик», и он не протестовал). Как мы обращались друг к другу, я рассказал. А о чем мы говорили, только ли о еде? Конечно же, обо всем. Молодые, грамотные ребята, в подавляющем большинстве из хороших учеников, начитанные, со свежими мозгами. В разговоре могла вынырнуть любая тема, и повернуться любым ракурсом. Жаль только, что какой бы не был интересный разговор, кончался он очень быстро, одной и той же дежурной фразой: «Хватит п…дить, работать надо». Опять цитата с усеченным словечком. Как вообще обстояло дело с матершиной? Без всякого смака! Смешил меня в этом плане Тимофеев (не Тишка, а воскресенский). У него был пришепётывающий говорок с легкой картавинкой. Казалось, что говорит дошкольник, а мат сыпался отборный. Так и в других отрядах. Матерились в основном те, кто привык, и то, чаще вводными добавками. Правда, все очень любили консультировать в тонкостях оборотов иностранцев. Тут уж старался каждый! Но зато, в присутствии девчонок мат изгонялся безоговорочно. Такие уж мы все-таки были джентельмены. Вот и дошли до заветной темы. «За едой о женщинах». Так что и как у нас говорилось о женщинах? Всяко, и по всякому, но конечно в основном понаслышке. И общими фразами. Были, разумеется, некоторые из нас постарше и просто поопытнее, но как-то не находилось любителей делиться подробностями собственного опыта. Отделывались они снисходительным жестом, мол, о чем с салагами толковать. Но это о женщинах вообще. А если конкретно, о наших стройотрядовках, то я не помню случая, чтобы какой-нибудь из них за спиной перемывали кости. Или хвастались успехом. Все было чинненько-благородненько. Итак, не будем о разговорах, перейдем к делам. Заранее оговорюсь, по этой деликатной теме рассказываю только то, что было общеизвестно. Что-то случайно увиденное, подслушанное или поведанное с глазу на глаз пусть остается в прошлом. Проще всего начать с Воскресенска. Отряд был чисто мужской. Но случались и там эпизоды. Один – потешный. Однажды на Менделеевской откидывали лопатой от бордюра чернозем. В одном месте попался цветник, и цветы полетели в ту же кучку. А сами по себе яркие, в самом цвету. Володя Драницкий не выдержал, набрал большую охапку. И когда возвращались в школу, предлагал встречным девушкам букетики. Но они только шарахались. Про другой – чуть-чуть подробнее. В той же школе, кроме МИХМовского, квартировал отряд студентов МГУ. Не знаю, каким специальностям их обучали в университете, но студентов вороватее я не встречал ни до, ни после. На окне в коридоре на ночь, или даже на час-другой нельзя было оставить ничего. Пропадало всё, вплоть до ржавого гвоздя или драной тряпки. Это уж, как говорится, к слову. Так вот, в отряде МГУ девушки были. Однажды (подробности в 3-м разделе) нашей катковской бригаде потребовалась юбка. Как самого деликатного и вежливого послали Серика Сейдуманова. Юбку он принес, а вернуть было некогда, Серика задействовали в каком-то конкурсе. Понес возвращать юбку Коля Морозов. И всё! С тех пор его трудно было вытащить с той половины, один раз пришлось даже припугнуть Ряузовым. Много шутили по этому поводу, особенно когда после банкета Морозов вызвался остаться в ликвидаторах (отряд МГУ еще не съехал). На БАМе с женским полом было чуть-чуть побогаче: трое поваров да еще четверо стройотрядовок. Чуть не забыл восьмую – врача Лену. Разумеется, это добавляло разнообразия и пикантности в наши банкеты. Их ведь, кроме двух традиционных было еще три, опять-таки по числу дружественных стран. Но банкеты банкетами, была и повседневная жизнь, так сказать – тихие вечера. Здесь выбор был ничтожный, а лучше сказать – никакой. Часть девчонок состояла (или считалась, это уже их дела) подругами вполне определенных парней, и потому числилась неприкосновенной. Остальные? Да, возникали парочки, сидевшие где-то в стороне, но сколько? Две-три. Основная масса волей-неволей оказывалась просто неохваченной, и отложила этот вопрос до лучших времен. Какого-то соперничества с мордобитием, когда девчонка вдруг перекочевывала от одного парня к другому, я не помню. Единственный, кто бегал за пределы отряда, на сторону, был официальный «бабник номер один» Гена Пудеев. Он даже не появился вовремя, когда приехала кассир с зарплатой. Деньги за него получал я – по комсомольскому билету, в затемненных заграничных очках Кароя Яноши. Тихо, но не без оснований, это место первого бабника оспаривал только Вова Маслов. Камаз. Большой лагерь, целый студенческий городок, казалось, есть где разгуляться. Но девчонки, в подавляющем большинстве, были михмовские. Как-то мало было их (а то и вовсе не было) в чужих отрядах. Правда, в период квартирьерства одна-единственная из них тогда – Танечка из Щукинского – удостаивала легким вниманием и нас, несчастных михмачей. Больше на предмет подкормиться щами или вермишелью с мясом. Щучкины дети, как люди духовные, уступали нам в аппетите – больше предпочитали «нащучиваться». Где теперь эта Танечка? Стала ли артисткой с известной фамилией, или прожила спокойно, семейно – всё равно. Спасибо ей за доброе сердце. Что говорить про наш Камазовский отряд? Были мы сырые, слабосильные первокурсники. Упахивались спервоначалу так, что главным удовольствием было – полежать в палатке после ужина. А чтобы бродить еще и после отбоя!? Змей как-то возмущался со злым смехом: «Да вы выйдите, поглядите! Бабы ищут! А эти – дрыхнут». Но кто-то, по-моему Мак, приписывал нашу пассивность не только усталости. Утверждал, что добавляют нам бром. Даже нюхал вечером чашки с чаем и после чая. Не знаю! Чай, конечно, слегка отдавал веником и подметкой, но это могло быть и без всякого брома. Три девчонки нашего отряда держались как-то особняком от нас. Были они чуток постарше, кроме того, одна считалась подругой Бориса Ицыгина. Про первый курс я уж и не говорю, но они и старших не особенно жаловали. Особенно почему-то не терпели Володьку Зинченко. А он был симпатичный благожелательный парень, и при этом очень музыкальный. Не берусь судить, насколько хорошо он играл на гитаре, но когда что-то насвистывал, звучало это, как номер на сцене. Очень художественно. Тем не менее, эти три подруги жили какой-то своей потаенной жизнью. Как-то на отрядной линейке получили они все три нагоняй за нарушение режима - не улеглись спать сразу после отбоя. Где и с кем они бродили, знают они сами, но никого из нашего отряда за аналогичное нарушение в тот раз не наказали. Но что говорить про наш отряд. Рядом стояло еще два, и в них-то девчонок было много. Особенно в пятом – «Кентавре». Были там две подружки, к которым подбивались первое время Слава Акимов и Вова Козловский. У нас в разговорах эти девчонки фигурировали под условными именами Халтура и Опалубка. Тут в полный рост проявился уже цитированный мною тезис «С женщинами – о работе». Со смехом в отряде пережевывали чью-то информацию, что Акимыч рассказывает своей девчонке, как они вычерпывают Яму, а Козлевич – как отсыпают конус. Дела эти лирические в конце концов иссякли. Акимов уехал, Козловский переключился на повариху Ольгу Шашкину. Впоследствии они поженились. Думаю, что очень характерен случай, известный мне с чужих слов, но из верного источника. Был организован вечер дружбы, говоря проще – танцы с участием местных девчонок с текстильной фабрики. Ездили на него от всех отрядов, в том числе и от нашего. Потом рассказывали, что вовсю развернулся на этом вечере единственный михмовец – наш комиссар Генка. Сам же Гена Снисаренко потом громогласно заявлял (если передать его слова в мягкой форме), что ему было очень стыдно за собственный институт. И напоследок, для завершения темы, маленький эпизод. У раздаточного окошка столовой – небольшой «хвост», бойцы получают обед. Змейков что-то бурчит, поторапливает поварих. Из-за его спины ехидный голос Татьяны Кириченко: «Осу! Осу ему положите!» Змей бросает через плечо: «Я тебе сейчас эту осу в одно место положу». Судя по последующему, он имел в виду что-то невинное: за шиворот, либо на нос… Но Танька вдруг подначивает: «А туда мне не осу надо!» Змейков опешил, было видно, что чуть-чуть не сказал «А что?». Но успел собраться. Дальше цитата, подлинные слова матершинника и грубияна. Внимание, воспроизвожу: «О!! Достойный ответ, мадемуазель! Ну, так я… кхм, кхм … скажу. Чувакам». Так вел себя с женщиной тот из нас, кто более других был способен на бесцеремонность и хамство. А что говорить, например, про Колю Иванченко, который, вроде Змейкова, тоже уже отслужил армию, но был гораздо деликатнее. На БАМе, в карьере, он оказался на балластировке в одном звене с Натальей Блохиной. Мы обратили внимание на его оживленный разговор и прислушались. Оказывается, Коля объяснял, как понимали любовь древние римляне. ----------------------------------------------------------------- Раздел 3. Развлечение. Я уже описал, как мы работали и как жили. Ограничиться только этим было бы неправдой. Человек не может жить одной работой и отдыхом. Вернее, не желает. Даже в стройотряде, где на все остальное, казалось бы, совсем не предусмотрено времени. Жизнь намеренно упрощена, так лучше. На два летних месяца студент должен забыть, что он студент. Он теперь некий странный гибрид бродяги и работяги. Так какие развлечения у работяги? Это хорошо известно: кино, вино и домино. А у бродяги? Мир вокруг и вечная песня. Заунывная в дороге, разухабистая на биваках. Если сложить всё вместе и вглядеться – неплохой набор для стройотрядовца. Кино, наверное, оставим напоследок. А начнем с домино. И других настольных игр: шахматы, карты, нарды. Самые экзотические, разумеется, нарды, я кстати их впервые и увидел именно в стройотряде. На Камазе. Кто не верит, напоминаю, нашими соседями по лагерю были студенты-ереванцы. Частенько замечал, проходя мимо, доску с фишками, кубики. Бросают и как-то непонятно перекладывают с места на место фишки. Кстати, все воспоминания хранят яркий солнечный свет. То есть дело происходило в наш кратковременный обед, просто мимо армянских палаток шла наша дорожка к туалету. Вот и всё про нарды. Игра была не наша, мы в нее не играли, а тем более после обеда. Армяне-то ведь работали не по-нашему. По-моему даже не больше восьми часов в день. Однако частенько, как стемнеет, грузились в машину и куда-то уезжали. А вот карты были, несомненно, нашей игрой. Командиры запрещали ее категорически и безоговорочно, но никак не могли искоренить. На Камазе она, правда, обитала скромненько, чуть-чуть, иногда, зато на БАМе без нее не обходился ни один вечер. Среди Витькиных ребят ямной бригады тоже были любители (Акимов, Ван, Козлевич), но в основном играли в нашей букановской палатке. Тут был один нюанс. Сорокин частенько устраивал налеты на палатки, но при этом не запрещал иностранцам играть в бридж. Считалось, что это что-то вроде шахмат. У них и карты были свои – сто листов со сфинксом на крапе. Поэтому, ближе к концу сезона, когда все немного друг к другу притерлись, этими иностранными картами играли в самый обыкновенный преферанс (до дурака правда не доходило). Но непременное условие, чтобы среди играющих сидел Карел или Анджей, а лучше оба сразу. Им тогда быстренько передавали карты и прятали пулю. Но если чехам и полякам было не до нас, и играли обыкновенной советской колодой, то для прикрытия ставили шахматную доску с незаконченной партией. Я не помню, чтобы кто-то просто играл в шахматы более-менее регулярно. Леха Леонов с Анджеем Кжеминским играли однажды шахматами в шашки и крепко поспорили, что такое «брать за фуку». А чтобы именно в шахматы…. Если и были любители этой игры, они ничем себя не проявляли. Карты же, те всегда собирали кружок игроков и зрителей. На шухере никто не стоял, но сигнал опасности всегда успевали подать. И вот: двое склонились над шахматами, остальные смотрят на их игру. Однажды Сорокин, который конечно отлично понимал всю эту маскировку, был не в духе. Он не заглянул как всегда, а вошел и встал прямо возле шахмат. Возникла немая сцена. Все ждут, что командир сейчас уйдет, а он не уходит. Тогда Соколов, сидящий за доской, схватил «своего» короля и махнул ход клеток через семь вперед. «Ты что! – воскликнул его «противник» Конопатов, - Это же король, а не дама!» Кто-то шикнул, кто-то втянул голову в плечи или отвел глаза. Сорокин постоял-постоял и вышел. На Камазе такого не бывало, в карты там только поигрывали. А в домино резались! Откуда-то, то ли с кухни, то ли с медпункта раздобыли узкий длинный стол серого цвета. Он чудом уместился в проходе между двумя рядами кроватей. В дождливые неуютные вечера на этом столе забивали козла до самого отбоя. И я умею мало-мальски играть в домино только благодаря тому камазовскому опыту. В самом начале БАМовского сезона, когда шло еще благоустройство лагеря, Маслов предложил мне изготовить такой столик. И мы на пару сделали его. Прочный, крепкий, из хорошей шпунтовки, чтобы выдержал любую доминошную баталию. Но народ нас не поддержал, мол, в палатке столик не нужен, а домино – не карты, можно и в столовой поиграть. Остался наш столик в столовой, поварихи приспособили его под глажку, поставили на него утюг, а потом перекочевал стол в уголок, и стоял на нем телевизор. Но и утюг рядом, места еще оставалось много. В Воскресенске настольных игр от греха подальше не держали. Штаб был не на всгорке, а в соседнем классе, да и своих «подкомандирщиков» хватало. Так только, в электричке в выходной. Но если на карты могли смотреть снисходительно и требовать лишь внешних приличий, с вином дело обстояло значительно строже. Тут уж не шутили по поводу дам и королей. Первое и непреложное правило распорядка – сухой закон. На Камазе так и было, тем более, что добиваться исполнения не составляло проблемы – сухой закон действовал и в Набережных Челнах. Спиртное можно было достать: портвейн в ресторане, водку в Елабуге, пиво – из бочки по субботам, но в свою тару. Незабываемая картина: четыре отличные асфальтовые дороги окантовывают будущий городской квартал. Но пока этот обширный коричневый квадрат пуст – пыль и сухая трава. Нетронутый кусок степи, стоишь на одной дороге, а противоположная чуть-чуть угадывается по столбам, почти у горизонта. И в самом центре этого квадрата – желтая квасная бочка, маяк, видимый издалека. К нему со всех сторон без всяких тропинок, кто ближе, кто дальше, подтягиваются темные фигурки. Очереди нет - расстояния большие, трудно, чтобы все скопились в одно время. А некоторые уже отходят. Когда подходят ближе, видно, что несут. Кто – прозрачный пакетик, кто – пакет, кто – целый полиэтиленовый мешок. Все эти мешки, мешочки налиты примерно на треть желтой, просвечивающей на солнце жидкостью, чуточку другого оттенка, чем сама бочка. Так пили пиво набережно-челнинцы. Не больно захочется топать к этой бочке за пивом. Поэтому, я даже не знаю, что за пиво было на Камазе. Не пробовал ни разу. Слов нет, при таких трудностях и строгостях у нас на Камазе пили мало, и не сильно об этом распространялись. Даже в квартирьерах жили трезво. Было среди нас четыре медика, так они поражались. Квартирьеры – и никаких бутылок. Сами-то они знали, где найти, не хуже щукинцев. Про других молчу, так как конспирировались тщательно, но про себя могу сказать, что за всё лето 1975 года в стройотряде мне случилось выпить трижды. Это если не считать завершающего банкета (костерка со скромным шашлыком). И из трех - два раза совсем понемножку: портвейна на четверых с бригадой, и в другой раз полстаканчика крепленого. Угостили ребята из «Кентавра» по случаю выхода из больницы. Я сидел один, наш отряд, как всегда, еще не возвращался, а они уже приехали. А та скандальная история, когда на линейке отчитывали проштрафившуюся троицу, произошла вернее всего потому, что Витька Фролов получил с посылкой бутылёк спирта. На местных ресурсах они бы наклюкаться не сумели. Зато сумели попасть на «доску почета». Очень жаль, что не найти теперь той фотографии, которая красовалась в МИХМе на одном из парадных стройотрядовских стендов. Стоит крупным планом Фролов, голова набок. Рядом – Тимонин, говорит сердито; еще дальше – Вася, набирает воздух, похоже, тоже собирается говорить. Теперь уже не узнать, кто и зачем это сфотографировал. И может быть на пленке остались, но только не попали на отпечатанную фотографию Змейков и Картавенков? Если уж говорить всю правду, скажу и про одеколон. Было и такое. Затосковали ребята, слили в одну кружку три привезенных из дома пузырька: «Для мужчин», «Шипр» и «Русский лес», и на троих по два глоточка. Тут даже и Вася Перин больше обалдел, чем возмутился. Пустые пузырьки на тумбочке, рядом кружка, в палатке - вонища одеколоном. Он как глянул, плюнул и вышел. Никого не наказывали. Смесь эту наши шутники обозвали «Напиток ЗК» - Зори Камаза. На БАМе для попрания сухого закона никакого портвейна не было. Только водка. Простая и лимонная. Или на западе – в Акульшете, или на востоке – в Гоголевке. Не смотри, что вокруг тайга, это ведь только на юг и на север! Так что, если кому очень надо, не удержишь – добудет. Уже самое начало отряда проходило с шумом и с гамом. На самолет нам приказано было явиться не утром – к отлету, а загодя, до двенадцати, с последним вагоном метро. И ждать утра в аэропорту. В большинстве приехали бойцы навеселе. А что касается нас троих: Маслова, Иванченко и меня, мы заявились еще часа на четыре раньше. И просидели их в ресторане аэропорта. Было такое время, когда студент, получающий стипендию, мог себе позволить четыре часа в одном из самых дорогих ресторанов. Чем-то мы напоминали персонажей Рязановского фильма «С легким паром», тогда еще не снятого, или может быть снятого, но еще не всеми поголовно увиденного. Важно рассуждали, не наш ли самолет подали, делали вид, что не помним, куда летим, в общем, дурачились. Но никуда не улетели, билеты были у командира, а мы, конечно, всё прекрасно помнили. Ведь нас ждал сам грандиозный БАМ! Правда, в конце концов, Иванченко не вылетел нашим рейсом и прибыл в отряд на сутки позже, но совсем по другой причине, не имеющей отношения к теме. Не блистала постничеством и жизнь БАМовских квартирьеров. В отличие от нашего педантичного Шабада, у них начальствовал невоздержанный Саша Кулешов. Его не останавливало даже присутствие Карела Шимана, человека совсем другой питейной традиции. Остальные двое бойцов: отличник Калитеевский и двоечник Леонов – Шкаф – его тем более не могли смутить. Но разговор с Кулешовым был еще впереди, а пока Сорокин загонял в рамки отряд. Как? В первые два дня никого не трогал, видимо рассчитав, что будет спущен главный запас наличности. Затем поговорил с несколькими бойцами с глазу на глаз. Каким образом он вел эти разговоры, не знаю, я такой беседы избежал. Но, судя по его стилю вообще, они были очень немногословны. Всё вошло в норму. Основные усилия Сорокин прилагал к тому, чтобы не дать распуститься тем, кто еще мог себя сдерживать и контролировать. Приструнивал, но главным образом никому, ни под каким видом не давал аванса. Вовка Соколов попросил как-то денег на ботинки. Сорокин ответил: «Скажи Ферро, он тебе деревянные сделает». Ферро – Франтишек Равингер – смастерил себе для бани что-то вроде сабо - деревянный низ, пластиковая перепонка. Меньше командир Витя возился с двумя дружками из бригады Крашенинникова, еще двумя, от прежнего состава стройотряда и завхозиком (так выражался Карел). Эти-то и комкали всю картину. Но с другой стороны, ведь с кем-то вообще не было проблем, они не пили не потому, что нет, а потому, что – не надо (Ширенов, Радин и их круг). Иностранцы (за исключением Павла) тоже были люди в этом плане серьезные. Все прочие время от времени, все же себе позволяли. Но если прикинуть, это случалось два-три раза за лето. Побалагуришь в лесочке, и бочком-краешком в лагерь. Чтобы кто-то затеял посиделки в палатке – редкий случай. В основном, если компания большая, а угощение так себе – на донышке. Больше не требовалось, для выплеска эмоций вполне хватало официальных отдушин: венгерский, польский, чешский вечер, день Строителя, фестиваль в Чуне. Если разобраться, даже много получается. На все официальные отрядные банкеты привозилось по бочке пива. Не венгерского, не чешского – тайшетского. Ужасная кислая гадость. Не знаю, где уж его брали. Но пили. Морщились, кривились. После одного из таких банкетов человек десять неделю промаялись животами (кстати, среди них ни одного иностранца). В Воскресенске первое питие водки в нашей бригаде Каткова состоялось по техническим причинам. Это был второй день работы. Необходимо было завершить забор, но полил сильный дождь. Юрка заказал одной из машин, подвозившей нам доски, три бутылки. Оприходовали их махом, и продолжали работу под дождем до самого вечера. Знал ли об этом Ряузов, сказать не берусь. Но думаю, тут бы он не стал искать виноватых. А там, кто знает? Дважды мы распили, опять же бригадой, по бутылке шампанского. Это были призы, один за футбол, второй – за конкурс агитбригад. Так что в Воскресенском отряде тоже активно пользовались методом официальных отдушин. Ведал ими комиссар Тимонин. С ним не боялись проводить переговоры, он имел вид и репутацию порядочного человека. И при этом, имеющего в штабе Ряузова определенный вес. Он, например, мог разрешить отметить день рождения. В меру, но с бутылочкой. Так мы отмечали всей нашей комнатой день рождения Казакова. Замечу, между прочим, что наибольший восторг вызвала не бутылка, а огромный арбуз, внезапно водруженный на стол Кротиком, главным организатором празднества. Ну и конечно – день Строителя! Он в официозном, казенном Воскресенском отряде прошел на удивление весело. На БАМе такие банкеты были поводом открыто пошуметь и побыстрее расползтись по компашкам, благо – места вокруг на природе сколько угодно. А тут нет. Просторный зал все в той же школе. Столы большой буквой «Пэ». Вдоль «перекладины» буквы расположился штаб с приспешниками, по «ножкам» - все остальные бойцы и непременно бригадами. Умеренное угощение, пиво. Не недоброй памяти тайшетское, а обыкновенное бутылочное. Впрочем, тоже в то время дефицит, как почти все советское. Бутылки по две на каждого. Всё культурно, даже семейно, и выйти-добавить некуда. Не успели усесться, как для разогрева запустили отрядную агитбригаду. Оказывается – была такая, хотя мы и не замечали. Несмотря на то, что из нашей комнаты в нее входили Кротик, Васильков и Зимин. Они для начала изобразили в ироническом виде, более или менее похоже, каждую из бригад. Потом пошли достопримечательности Москвы. Мне больше всего запомнилась Останкинская башня. Четверо подняли стул, на котором стоял худой длинный Талдыкин, который еще задрал вверх обе руки. Дальше музыка, пока еще благопристойная. Кротик сыграл на своем баяне что-то космическое, передал баян Черемныху. Тот исполнил полонез Огинского. Начались конкурсы, по человеку от бригады. Так как бригад было шесть, и не так много народу в каждой, отсидеться не удавалось никому. Мне досталось соревнование, взбесившее меня до самых печенок. Тимонин выдал нам по удочке, на лески которых были нацеплены яблоки. Крупный, незрелый, дубовый Антон, который и так-то грызть не захочешь. Вгрызться в яблоко не удавалось, вокруг стоял хохот. Так и подмывало запустить эту удочку в какую-нибудь смеющуюся рожу. Но особенно я ненавидел в эту минуту неподатливое яблоко. Видимо, эта зверская ненависть была написана на моем лице крупным планом. Зрители бушевали. Съел я яблоко только вторым, но под общие аплодисменты Тимонин вручил приз мне. Он объявил, что победитель – Зимин – сжульничал, а я проявил «волю к победе». Как видно, моя воля к победе выглядела со стороны очень уж смешно. Мой приз состоял в пачке вафель, я без сожаления передал их в фонд бригады. Главный же из призов возвышался на столе прямо напротив Тимонина. Шампанское. За него надо было занять первое место в шуточном номере силами всей бригады. И вот тут, не знаю как кого, но меня удивил Катков. Я и не подозревал в этом человеке других качеств, кроме умения хорошо работать и руководить бригадой. Был он невозмутим, серьезен, никогда не шутил, а тем более напевал, вообще говорил мало. Маленькая деталь: при первой встрече мне он представился как «Юрий», и до самого конца лета я так ни разу и не назвал его просто Юра. В общем, что-то вроде армейского старшины. И вдруг этот самый Катков, не моргнув глазом, заявляет: «Изображаем бабу Ягу». Серик сбегал и добыл юбку. Юрка быстро и сжато изложил нам сценарий. Скоренько прорепетировали, времени было мало. Раза три он заставил нас пропеть припев финальной песни (куплет пела баба Яга – то есть сам наш строгий бригадир). Переоделись. Мы были пираты: Красный живот, Коловорот и пр. Ребята навязали какие-то тряпки на головы, Коля Морозов разделся по пояс. Относительно меня Катков потребовал только кепки. Моя знаменитая потрепанная кепка прошла со мной все три стройотряда. Нахлобучил я ее конечно «по-уркагански». Вошли цепочкой, каждый по очереди сцапал со стола по бутылке, сели в кружок на полу. Стали изображать в воздухе игру в карты. Зрители вежливо подхихикивали, но ждали, чего же мы все-таки хотим. И вдруг сразу дружный гогот. Можно было не поднимать головы, и так всё было предельно ясно – в зал вошла баба. Баба яга. Но я все-таки глянул. Изящная коричневая юбочка, под ней – здоровые волосатые ноги и корявые башмаки. Выше – желтая футболка, сильно оттопыренная шарами скомканных газет, причем слева больше, а справа меньше. И платочек, завязанный узко-узко. А из него торчат пышные коричневые усы. По сути – номер был сделан. Разговор, якобы по телефону, Красного Живота с Ягой трудно разобрать, с мест неслись смешки и выкрики. Напрасно Коля Морозов в такт разговору поддергивал голым животом, добавить к хохоту что-то еще было трудновато. Но не в этом заключался весь фокус! По заказу бабы Яги пираты должны были добыть для нее «мальчика», то есть притащить кого-то из зрителей. И был сделан безошибочный выбор – мастер Олег. Тиньков Олег Васильевич, сотрудник 50 кафедры, стоял в штабе особняком. Все знали, что ему можно, как говорится, «навешать лапши на уши». Говоря проще, его не шибко волновали производственные отрядовские дела, он выполнял их без ажиотажа и фанатизма. Лишь бы побыстрее сделать и забыть. И чем дальше, тем больше среди бойцов ходили сплетни, о его кажущейся тупости и недалекости. Поэтому, когда мы, обежав столы, с воплями выволокли солидного массивного Олега пред очи Яги, публика вопила уже не от потехи, а от восторга. Конкин громогласно высказал среди шума: «Опять Каткову шампанское». Это было верное замечание. После нас вышли еще одни пираты : Шкаф, Трутнев, Карась и другие. Разодеты они были гораздо живописнее: тельняшки, пестрые платки, черные повязки. Шкаф нес разрисованную четвертную бутылищу. Ту самую бутыль из-под самогона, из-за которого Карась чуть не посыпался из отряда. Воспоминание было свежее, хохотали не меньше. И спели они гораздо лучше нас, мы все-таки напортачили с финальным куплетом. Слов нет, не будь бабы Яги, они заняли бы законное первое место. Потом бригада ушла на свои места, Карась с гитарой остался. Спел «Если друг оказался вдруг». Но уже развернулось веселье и, с благословения Ряузова, следующей была песня про «столб с высоким напряженьем». После этого, еще парочку подобных. Банкет въехал в свое законное русло, но мы потихоньку отошли, унося шампанское. Уединенный Воскресенский отряд представлял собой тот редкий случай, когда агитбригада использовалась преимущественно для внутреннего потребления. Камаз и тем более БАМ организовывали агитбригады для представительских задач. Это была одна из статей отчета отрядного комиссара. Как уж отчитывался на Камазе Гена Снисаренко, не имею данных. Могу предположить, что где-то провели разрешение на организацию общей агитбригады от всех трех «Камовских» отрядов сразу. И тем избавили Гену от хлопот, а Васю от нерационального применения рабочей силы. Допускаю даже, что это стоило каких-то дополнительных выплат в фонд Победы (был юбилейный 1975 год) или отчислений «за того парня». В нашей Формике «тем парнем» состоял – мы за это голосовали – Лукьянов, давший имя улице Лукьянова. Но кто знает, может быть, были и другие «парни». По крайней мере, шуток у нас между собой на этот предмет было множество. Если ничего нельзя было сделать – оставалось шутить. А вот на БАМе агитбригада должна была быть в обязательном порядке, и она была. Иначе комиссару Мише Латыпову вряд ли удалось бы провести в полном блеске свою отчетность. (Я слышал, на него вообще была возложена отчетность перед верхними штабами. По крайней мере, он вечно сидел с какими-то бумагами, а на путях, стройке и в карьере не побывал ни разу.) По чистой случайности мне пришлось один раз почти присутствовать при коллективном написании сценария будущего выступления агитбригады. В своё ночное дежурство. Я забыл упомянуть, что и на Камазе и на БАМе на каждую ночь назначались по два бойца. Они должны были оберегать лагерь, а на БАМе еще под утро заправлять водой рукомойники. Есть рассказы студентов из других ВУЗов, что у них за такую ночь полагалось спать днем, у кого – весь день, у кого – до обеда. В МИХМовских отрядах дежурный после ночи без вопросов выходил на работу. Вот таким дежурным и сидел я в уголке столовой, а агитбригадчики кучковались за крайним обеденным столом. Заправлял Зейгерман. Он, судя по манерам, был единственным профессиональным агитбригадовцем. К тому же, по договоренности с командиром, скоро собирался уезжать. Поэтому гнал, торопил, осаживал посторонние разговоры. И вел запись с редактурой. Остальные выкидывали в воздух варианты сценок, реплик, а что попадало на бумагу, знал один Саня. Активно сочиняли – Бубликова, Маслов, Козловский, Трахман больше помалкивал. Костромов бурчал и дулся. А если и высказывался, то с такой презрительной интонацией непонятого мастера, что все молча дожидались, пока он договорит, и как ни в чем не бывало, продолжали. Насколько я понял, Кострома стоял за то, чтобы не париться, а взять уже известные номера и на этом успокоиться. По-моему Трахман в чем-то был с ним согласен. Остальные хотели сотворить что-то свое. Через неделю, когда агитбригадчики делали предфестивальную прокатку своего творения перед отрядом, итог обозначился сам собой. Кострома вышел из агитбригады, Трахман был задействован минимально: развертывание титров-плакатов и маленький эпизодик. Зато появились новые лица: Леха Леонов, Гаврош и Ван. Ван держался неплохо, не усердствовал, сохранил присущую ему в жизни иронию. А вот большой театрал Леонов (он любил вести разговоры о театре) вообразил себя актером. Он дергался, выкрикивал, строил разные гримасы. Наверное, хотел каким-то образом вызвать смех. Выступление изображало в миниатюре один день одного строительного отряда. Маслов и Козлевич, как два самых длинных, играли большей частью прорабов. Танька Бубликова – все женские роли, главное для нее было – улыбочка на личике, кокетливые движения. Но убойным гвоздем программы стал Гаврош. Ему не нужно было изображать писклявые нотки в голосе, румяную мордочку, фигуру неуклюжего медвежонка, катающегося, как колобок. Всё это у него было. Но когда он появился в непомерной телогрейке, капитанской фуражке с блестящим козырьком (телогрейка была Калитеевского, фуражка – Буканова), повернулся спиной, открыв белую надпись «Бригадир», все просто легли от хохота. И хохотали не переставая. Гаврош расталкивал спящих, докладывал с серьезным видом на линейке, изображал увальня-шофера с басовитым говорком и снова самодура-бригадира – все было классно. В Чуне ребята получили приз за оригинальность, а Гаврош на следующий год уехал в Германию с обменной группой. Вернусь к Камазу. Что можно сказать о той, единой для трех отрядов, агитбригаде? Какое впечатление оставило их выступление вокруг лагерного монумента с тачкой? В целом неплохое, но там потрудился очень умелый сценарист. С опытом и фантазией. И, честно признаться, мы смотрели их вполглаза, ожидали последующего выступления щукинцев. Уж те-то специалисты, должны поразить. Что ж, щукинцев хорошо приняли, горячо аплодировали, но, боюсь, все рассчитывали на что-то большее. Да, они были раскованней, подвижней, не переигрывали. А их диалоги… Оценки, разумеется, ставить не нам, но я не увидел разницы с любой самодеятельностью. Бывало, какие-нибудь прирожденные рассказчики или анекдотчики из обычных, завораживали сильнее. И конечно единственный, кто безусловно покорил нас, был Меншиков, тогда еще студент, а не артист. Он всего-навсего прочел стихи, причем патриотические, год-то был – 30летие Победы. Но все скептики прониклись, присмирели и слушали. А потом громко хлопали… А как же наши, из первого линейного, потенциальные агитбригадовцы? Те же Ван, Козлевич, Змейков, Зинченко? Их нутро все же пересилило! Во второй половине сезона, в августе, уже темными холодными вечерами начались дикие концерты для самих себя. Гитар в отряде было не меньше пяти, «гитаристов» значительно больше. Слегка поигрывал Юрка Воронов, бренчал Козлевич. Иногда брал гитару Шавкат Ибрагимов. Играли Зинченко, Маслов, совсем немного Борька Ицыгин. Всегда тихо улыбающийся Серега Иванов втихомолку считал себе лучшим гитаристом. Нестройные аккорды выдавала Бардина Вера, но только если никто не мешает. Коля Иванченко, вечно морщащийся при попытках настроить хоть какую-то из гитар, наконец успокаивался и начинал аккомпанировать сам себе. Он любил не играть, а петь. А Змейков, наоборот, пел лишь когда разохотится, а больше что-то наигрывал. И вдруг струны из его угла начинали громко и отчетливо отчеканивать «Интернационал». Это была его любимая музыкальная шутка. Певцом и гитаристом был и комиссар Генка Снисаренко, но у него имелся свой репертуар и своя камерная аудитория. Если не считать дня приезда, то сначала гитары звучали мало. Чаще их корпуса клали на колени вместо конторок, чтобы писать письма домой. Маслов все рвался собрать трио со Змеем и Иванченко. Иногда они пробовали сыграть втроем, но больше так : или от скуки, или под ЗК. Что-то переменилось после эпидемии и массового отъезда. Я не мог наблюдать, как происходила эта перемена: выйдя из больницы, застал уже другой отряд. То ли потому, что все втянулись, и стало легче, а может быть перемешались бригады, и все лучше узнали друг друга. Но бойцы теперь не дичились, не замыкались. По дороге на работу звучали шутки на весь автобус, предназначенные для всех. Со мной, как со своим, заговаривали те, кто раньше только удивленно косился. Но самое необычное происходило после ужина. Все сидели не в палатках, а возле одной из них. Под навесом на скамеечке, и вокруг. Тут же была парочка гитар. Начинали тихо, кто-нибудь один. Потом умолкал, пел и играл второй. Доходило до песни с припевом, и тут же к гитаре проталкивался Гаврош. Он никого не стеснялся, и припев шел уже во всю глотку. И чем больше темнело, тем больше присоединялось. Начиналось уже не пение, а орание. Кто громче! Когда уставали, снова шло что-то тихое. Чаще новенькое. Тут же впервые прошла песня о Яме, куплеты на мотив «Тихо в лесу». Но недолго. Снова хором и снова в голос. И так из вечера в вечер. Ни во втором, ни в пятом отряде подобного не водилось. Они вели себя значительно тише, скрытней. А орать так, чтобы разносилось по всей округе! Конечно, орали только до отбоя. Но мы, по простоте, гордились и этим. Своей кажущейся отчаянностью. Пошучивали: «Когда первый отряд гуляет, все должны по стойке смирно стоять!». А однажды шел от штабного вагончика Витька Калитеевский. На фоне темнеющего неба его не признали. Кто-то громким шепотом бросил в толпу: «Тимонин!». Орание захлебнулось на полуслове, и через секунду все были в палатках по своим кроватям. На следующий вечер, при очередной спевке со смехом об этом вспоминали. Что у нас тогда пели? Почти из вечера в вечер одно и то же, лишь бы больше шума. Вот неполный, но характерный список: старый дом, медузы подплывали, алера-опа, отрада в высоком терему, фонарики, свищет соловей в кустах сирени, на Перовском на базаре. Но почему-то вместо Перовского у нас получалось: «На Лукьяновском базаре». Может быть, в честь улицы Лукьянова? Ни на БАМе, ни в Воскресенске такого коллективного пения я больше не встречал. БАМовский отряд вообще не отличался пристрастием к музыкальности. На гитарах играли мало, и, как правило, те же: Иванченко, Маслов. Главном же музыкантом старых БАМовцев был Кострома. От него мы услышали песню врача Лены про Малый БАМ. Он пытался сделать ее как бы отрядной, но тщетно. Пробел по части пения восполнялся репродуктором – «колокольчиком». Не постоянно, но в лагере спервоначалу звучали магнитофонные записи. Модные иностранные быстро прискучили, большей частью «колокольчик» потом молчал, а если кто-то иногда и ставил, то заезженные советские. Лишь бы по-русски. Конечно, репродуктор использовался и для объявления распоряжений командира, причем напрямую из штаба. Иногда в вагончике забывали выключить микрофон, в воздух вдруг проскакивали обрывки фраз. А один раз и вообще непотребное: «Саша, если не умеешь пить, не пей!». Чуть выше я коснулся, так сказать, нашего репертуара. Как не покажется это невероятным, он в львиной доле был обычным советским. То есть пели то, что можно было услышать и в официальной трансляции. Конечно, отбирали. Не жаловали очень уж советские произведения типа «Малой Земли». По большей части брали из кинофильмов. Там проскакивали цензуру более вольные варианты. Под маркой песен врага или отрицательного персонажа. Не проходили у нас и блатные, тюремного толка. На БАМе пел их иногда Женька Марютин – «сын полка» - трудновоспитуемый подросток из профтехучилища. Его не пресекали, но морщились и старались не слушать. А бардовской неофициальной песни или самодеятельной студенческой было мало. Всё это пришло потом, на старших курсах. К концу института, в компаниях они вытеснили всё остальное. Мы же, стройотрядовцы 75, 76 года стояли только в начале пути. Вспоминаю, как я, по сути, вчерашний школьник, отправился на Камаз квартирьером. Сели в электричку до Быкова. Ехали сразу квартирьеры нескольких камазовских отрядов. И вот где-то в соседнем купе один из старших парней заиграл на гитаре и запел. Песня абсолютно незнакомая, причем незнакомы и тематика, и стиль. Что-то: «Махнул рукой привычный машинист… заиграл задорный гитарист… на дровах отплясывает твист». За ней вторая, дальше, дальше… Он пел, не переставая, всю дорогу. Таких песен я раньше не слышал совсем и не подозревал, что они существуют. Что я знал? Трансляции по радио, народные – с пластинок и неприличные дворовые частушки. А тут! Слова чистые, рифмы на месте, никакой грубой похабщины, и в то же время – ново, свежо, необычно. Я даже не пытался запоминать, так много было этих песен. Одна все-таки запала, песня иностранного легиона (Из Сахары дует ветер…). Есть у меня смутное подозрение, что был это всё тот же знаменитый Лёлик. Видел я потом этого парня при отъезде с Камаза, возле нашего эшелона. Он опять был с гитарой, что-то пел. И к моему неудовольствию запомнившуюся мне песню переиначивал: «Мы выходим на рассвете, над Камазом дует ветер, и груженый наш завхоз наперерез». Второй контакт со старшекурсниками по необычным песням произошел буквально через день. С нами в «Каме» было четыре медика, поехавших в МИХМовские отряды. Двоих, Козицкого и Алейникова, я уже упоминал. Кроме них были: бородатенький Валера Раноми и мощный Володя Суслин. Суслин играл на гитаре так, что его можно было просто сидеть и слушать. Музыку без всяких песен. Но он еще и пел (и кстати, божественно рассказывал анекдоты). Вот тут мы и услышали и бардовскую песню, и студенческий фольклор. Правда, насквозь медицинский ( «В аорте гул, и жидкий стул», «мой халатик в чемодане, стетоскоп всегда в кармане»). Ничем равноценным ответить мы – желторотые первокурсники не могли. Единственно, Валерка тэкашник вытащил откуда-то (может быть, и сочинил, но скромно умолчал) песню о Камазе. И когда медики спели институтский гимн (В глуши, в таёжном лазарете, Ты вспомнишь курс веселый свой: первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой) Шабад – комиссар второго линейного и начальник квартирьеров – буквально взмолился: «Кто знает Улицу Лукьянова?». А мы о такой даже не слыхали. Но приехали отряды, квартирьерская идиллия кончилась. Что-то подобное зазвучало уже значительно позже: на картошке, на практиках. Под занавес музыкальной темы о Воскресенском отряде. В нашей комнате, кроме художника и поэта (Зимин), был и музыкант – Саша Кротов. Гитара появилась с первого дня, скоро он привез и баян. Практически он и играл, и пел понемногу каждый вечер. Подпевать ему не требовалось, даже возбранялось. Кротик говорил, что чуть было не стал учиться в Гнесиновском училище, но не хватило какой-то малости по организационной части. Вполне можно было поверить, слушая его игру и пение. Например, Черемных мог сыграть на баяне полонез Огинского, но у него он звучал ученически: со сбоями и перескоками. Шепотом, чтобы не обидеть парня, мы говорили, что это – полонез Ногинского. (Ногинск – райцентр в Московской области. Черемных был из г. Железнодорожного, того же направления. К слову, Кротик с той же стороны – из Орехова-Зуева). И вот как-то, в комнате и было-то человека три, Кротов присел и спокойно проиграл тот же полонез. Видимо для себя, в первый и последний раз. Это было чисто, как запись на радио. Так обстояло дело с хорошей музыкой. Но конечно, Казаков мог, дурачась, пропеть под гитару: «Пошел я как-то в баньку. В ней не было воды». А однажды мы, на пару со Шкафом, совсем уже для потехи, протараторили песенку о «купе нетесном, четырехместном». Между прочим, хорошо играл на баяне командир «Магистрали 76» Виктор Сорокин, очень музыкально пел мастер Рустэм. Но такие вещи узнаются только на завершающем банкете. К слову сказать, не обделен был слухом и голосом и сам Ряузов. Мы убедились в этом во время окончательного отъезда из отряда в вагоне последней электрички. О пении и музицировании я рассказал достаточно. Чем еще тешили свою душу стройотрядовцы. На БАМе – экзотикой сибирской природы. Начиналось с бурундучков, их было множество, но до ловли, как предлагали некоторые, не дошло. Просто было здорово: чуть отошел в лес, и вот уже мелькнул настоящий живой зверек. Поднимались мы и на сопку, оглядывали окрестности – такие же лесистые сопки. Забирались в болото. Коля Иванченко всё толковал, как ему хочется поймать змею, и не гадюку, а подиковиннее. За эти разговоры его и самого за глаза поддразнивали Щитомордником. Но не всерьез, зная его ранимую натуру. А из болота мы однажды с Масловым еле выбрались. Хорошо, наткнулись на какую-то мощеную плахами дорогу. Как шпалы, но зеленые от пышного мха, и некоторые уже провалились в топь. В тот раз мы действительно понюхали дух тайги – сумрачный, мшистый и болотный. Речка Байроновка была хороша только для живописца – и быстрая, и извилистая, и чистая. Купаться же в ней было нереально, не успеешь влезть – закоченеешь. И с рыбалкой хило, кто пробовал – приходил пустой. Про хариуса (которого Трахман называл нотариус) лишь разговоры ходили. Зато однажды добрались мы до озера. Вот это было другое дело! И красотища – широкая зеркальная гладь в крутых темно-зеленых берегах, небо где-то высоко над головой, а вся его синева – здесь. И купание. Даже узенькая лодочка, местная индейская пирога. На берегу этого озера старики-БАМовцы показали нам кедр, маленький в полтора человеческих роста, но единственный, виденный мной своими глазами. Так что шишек кедровых нам добыть не пришлось. Зато ягод было! А особенно – так смородины. В диком лесу натуральные кусты, которые нам только в саду встречать приходилось. С грибами хуже. Только после дождичка, и бери сразу. День-два – перерастут, а на новые не надейся. Всё-таки несколько раз баловали себя грибочками. На комаров и слепней мы быстро перестали обращать внимание. Мошка вот, та донимала. Ходили покусанные, кто с губой, кто с глазом. А на руки Верочки жутко было смотреть, сплошь в красных точках, как варежки. Удостоился внимания и энцефалитный клещ. Вовка Копылов отловил его где-то в лесу и принес в лагерь – показать всем. Дивились на чудо-зверя, пока Лена не отобрала и уничтожила. Нам – санинструкторам (мне, Серокулову и Бубликовой) было сделано строгое внушение, чтобы докладывали вовремя о подобных случаях. Про Воскресенск не говорю, но и на Камазе с природой, по сравнению с Сибирью было бедновато. Степь, мелкие сухие перелески. Однажды выехали отрядом на левацкий объект – расчистить делянку в лесу. И что за лес – частая хилая поросль. Тюкали топорами, но при желании можно было бы и руками ломать…. Одно только и стоило внимания – Кама. Располагалась у самого лагеря, под боком, и широкая была здесь, подперта чуть ниже лежащей плотиной. Несколько раз за лето купались: освежиться, грязь смыть, но все равно в радость. С криками, гиками, подпрыгиванием. И нагишом. Маленький мальчик спросил про нас у родителей на берегу: «Кто это такие?». Ответ получил: «Пираты». Врач Люба, хоть и должна была по инструкции присутствовать при наших купаниях, благоразумно не появлялась. Осталось, как я и говорил в начале, рассказать про кино, а равным образом и другие массово-культурные мероприятия. Были и такие. Прежде всего – народное гуляние на Сабантуйском поле. Это фактически у самого лагеря. Когда мы ехали квартирьерами на автобусе в лагерь, увидели это поле сразу после Сабантуя, того самого – народного татарского праздника. Казалось, что оно в снегу, столько валялось бумаги, коробок, ящиков. «Вон как здесь гуляют!» - восхитился Шабад. Шофер, везший нас, не понял, что мы увидели такого особенного. Потом заметил вдали парочку и истолковал по-своему: «Да-да! Девчонка здесь много». Пласты мусора на этом поле естественным путем постепенно уменьшались и рассеивались. Но накануне нового гуляния мы вышли с длинными стальными прутами – очистить его окончательно. Тоже левая работа. Для нас уже она была праздником – вместо лопаты ходи себе с прутиком целую субботу. И на следующий день, с самого с утра, громогласная музыка: «Такого нигде нет. Только на Каме. В Набережных Челнах!». Такая вот песня. Кроме шашлыков и пива намечались там для народа всякие развлечения: народные ансамбли, приземление парашютистов. Но мы выбрали самое интересное – собачья выставка. Соревновались там овчарки, колли и бульдожки (боксеры). Одна самая свирепая и беспокойная бульдожка звалась Сафо. Мы, конечно, никто не знали, что это имя античной поэтессы, и вообще женское имя. Громче всех орал Мак: «Сафона, Сафона давайте! Он сейчас всех порвет!». Но победила маленькая рыженькая колли. Трудно сказать, к чему следует отнести другое Камазовское мероприятие – к общественной нагрузке или своеобразному развлечению. Я имею в виду ночное факельное шествие. Каким политическим событиям оно было посвящено, не помню напрочь. Не намного отступлю от истины, если скажу, что нас особо не посвящали в эти тонкости. Помнится, было так: «Сегодня заканчиваем раньше, бросай работу и в автобус». А в лагере: быстренько ужинайте, переодевайтесь и едем. Поэтому не буду сочинять, передам чисто свои собственные впечатления. Стояла черная ночь. Факела светились, но плохо освещали. Хорошо были видны нижние половины человеческих фигур, а на голову и плечи падали размытые тени. Разговор среди нас шел негромкий, общее монотонное бурчание. Были там не одни МИХМовцы, медики из той же нашей «Камы» построились в колонну и прошли мимо нас. Впереди колонны, как на демонстрации, они несли что-то. Плоское сооружение сложной формы из кругов и прямоугольников. Вероятно, герб института. Они и выкрикивали какие-то здравицы в свою пользу. По-моему так: «Самый лучший ВУЗ земли – наш московский мед МОЛГМИ». Во всяком случае «земли» и «МОЛГМИ» - точно. Мне нравилась необычность обстановки, но вероятно и спать очень хотелось. Мешал факел, немела рука. Похоже на то, что веки, как у Вия, не хотели подниматься выше кончика собственного носа. Осталось устойчивое видение в памяти, это когда мы уже шли в колонне – в ряду впереди меня три дружка: Пучок, Баранов и Мак. Худенький Баранов между двумя коренастыми. Шли они трое в ногу, одновременно вздергивали факелы и что-то выкрикивали в такт. Резкое, похожее на отрывистые немецкие слова. (Пучок, насколько я помню, изучал немецкий, по крайней мере английского точно не знал). Лучше всех мне запомнился именно Баранов: в своей выцветшей дожёлта куртке и брезентовых штанах, со следами ниток ушивки на заднице. Но вот наша колонна встала. Что там впереди, я не видел, да и видно не было. Какое-то светящееся, движущееся, гудящее марево. И только время от времени рев. Волной докатывается до нас, и мы тоже ревем. В одну букву «Э-э-э!» или «О-о-о!». Некоторые при этом поддергивают вверх факела. Где потом тушили факела, тыкали их в песок, сказать трудно. То ли тут же, где стояли, то ли немного отойдя. Во всяком случае – недалеко. И едучи в автобусе назад, никто ничего не обсуждал, не делился впечатлениями, все до одного спали, как убитые. Генка потом бурчал: «Ничего им не нужно! Только пожрать, поспать да в баньку сходить». БАМ не мог похвастать массовыми мероприятиями, проводить их было некому и не с кем. Единственное событие подобного рода – студенческий фестиваль в Чуне. На который я благополучно не попал. А с чужих слов недолго и наврать. Но все-таки кое-куда ехать мне пришлось – на День Строителя в СМП. Кроме агитбригад туда везли и тех, кто должен был получать почетные грамоты. Там, кроме нашей агитбригады, посмотрел я выступление от соседнего отряда: Отеллу и другие, как говорил Трахман, старые МИХМовские хохмы. Мужики в зале вежливо хлопали, хохотали несколько мальчишек-школьников. Эти «старые хохмы» я видел тогда в первый и последний раз. («Отелло» Брозголя, Ляндреса и Рогачевского в кинешемских лагерях не имело с этим ничего общего). Но вот мы встали в кучку, изготовившись к получению грамот. Рядом со мной оказался Митронов, приехавший раньше. Он вытаращил глаза, увидев меня при параде. До этого я не вылезал из черной спецовки, обтрепанной кепки и кирзовых сапог. (Крош даже как-то пошутил в бане, что не видит на мне кепки). Саша скрупулезно принялся изучать все значки на куртке, а было их немало. Наконец он понял, что это его собственная куртка… Такова была воля наших отрядных командиров. Когда они увидели на мне мою парадную бойцовку – чистую, глаженную, непотрепанную, но без единой надписи, наклейки, без единого значка и даже без фирменной рукавной нашивки, на меня молча напялили куртку Боцмана. У него их было две. Одну, поскромнее, надел сам Митронов, а вторую – шикарную, нарядную, привез на своих плечах я. До сих пор надеюсь, смиренно, но с сомнением, что Саша на меня не обиделся. Ведь я совершил почти святотатство. Куртка для бойца стройотряда была не просто размалеванной штормовкой. Отношение к ней было, как к своему личному боевому знамени. Вкратце скажу, почему я ходил без надписей и нашивок, и тем посрамил даже Радина, гордившегося своей принципиально девственной курточкой. Но у него все-таки была МИХМовская нашивка на рукаве! Нашивку я не получил, так как выдавали их в эшелоне, а я уехал раньше, квартирьером, причем скоропалительно (сегодня сказали, завтра поехал). А потом их не было, Васька сказал, что у него всё штаб потаскал. Так и нет ее в моей маленькой коллекции. Есть более поздняя – желто-синяя и несколько других: армянская с их вычурными буквами, особая – Воскресенского отряда, венгерская – подарок Кароя и Ласло…. А вот старой МИХМовской – красно-черно-желтой – увы нет. Как и значка. Все, что я носил на куртке летом 75г. в официальные дни – сразу три комсомольских значка с надписью «Ударник». Кто-то из верхних намекнул мне, что такое недопустимо, это знак различия и должен быть любой, хоть «ударник», хоть «ленинский зачет», но один. Тогда я прицепил третий. (Один мне вручил, как квартирьеру, комиссар 2 линейного Шабад, второй выдал свой комиссар Генка при награждении лучших бойцов бригад, третий подарил командир 5 линейного Родион Верхоломов в память о совместных мытарствах в больнице). И со спинными надписями на Камазе в нашей первой линейной Формике всё было пущено на самотек. Делали каждый себе, самое большое – себе и приятелю. Тишка, скажем, разрисовывал куртку Сявику (Савченкову), Змейков – Кураченкову. Кто-то срисовывал с Камазовского значка – автомобиль, вид спереди; по кругу надпись. Кто-то изготовил шаблон на более упрощенный вариант – надпись в контуре автомобиля. Ограничивались и просто надписью – Камаз 75. Каждый четвертый разрисовывал куртку уже дома. Маслов, например, сделал сверхоригинальную надпись: Яр-Челны. (Набережные Челны по-татарски называются Яр Чаллы). Так что в эшелоне мы выглядели скромненько. Другие отряды - вспомню, аж рябит в глазах! Сплошь оранжевые рисунки, как с одного станка - автомобиль с фургоном во всю спину в три четверти оборота. Почему же я ничего не написал на своей куртке? По причинам, которые сейчас кажутся отговоркой. Еще в квартирьерах я решил, что напишу только буквы без всякого рисунка. Перед глазами стояла гордо-скромная куртка Валерки Раноми с четырьмя строчками. Были там и Сибирь, и Сахалин, и Карелия. Но когда разрисовывали куртки, выдали нам только три краски. Красную я никогда не любил, она и сейчас кажется мне грубой, даже алая как кровь. Белая и голубая не сочетались с зеленью куртки. И я решил: сделаю дома в серо-серебристых тонах. А дома, перенесясь в другую обстановку, какими-то далекими и нереальными показались мне наши стройотрядовские традиции. Но я отвлекся в сторону от темы зрелищ. Кино, самое доступное зрелище в обыденной жизни, в стройотряде переместилось на последнее место. На Камазе фильмов мы не смотрели, зато в них снимались. Приехала в лагерь киносъемочная бригада, кино называлось или «Дорога», или «В дороге», или «В дорогу». Запустили сцену танцев. Втормедовский ансамбль «Сказочники» гнал танцевальную музыку, и студенты плотной толпой танцевали. Дубля три или четыре прокрутили, все кто думал, что попали в кадр, радовались от всей души. Видели потом этот фильм по телевизору. Крупным планом музыканты, затем танцующие – совершенно темная масса. И мелькнула одна-единственная девчонка, которую можно было успеть разобрать. Какая-то стройотрядовка из второго линейного, проходившая у нас в разговорах под условным прозванием «Белокурая Жози». На БАМе в отрядной столовой стоял телевизор. По системе программ «Орбита», один и тот же фильм можно было посмотреть в течение дня через каждые три часа. Так сначала и делали. Шел четырехсерийный фильм «Наследники» о строительстве химкомбината и всяких махинациях вокруг стройки. Кто-то посмотрел, и созвал всех, кто в этот момент был в лагере, посмотреть, какую лажу показывают. Затем смотрели еще раз с шумными комментариями. Активнее всех возмущался Сын (Целиков), шумел громче телевизора. Серию просмотрели, половина зрителей разошлась, в том числе и Целиков. Те, кто остался смотреть по третьему разу, почувствовали скуку. «Без Сына смотреть неинтересно», - сказал Костромов и с общего согласия выключил телевизор. Конечно, смотрели и «Семнадцать мгновений весны». То и дело пробегал шепоток: «Мюллер, Мюллер!». «За что вы все так его любите?» - недоумевал Карел Шиман. В Воскресенске телевизора не было, но в городе, разумеется, работали кинотеатры. Однажды, попутно к какому-то разговору, Тимонин заметил, что если кто желает сходить в кино – деньги на это выделяются. В первый раз пошло человек пятнадцать, шла картина «Ты мне, я тебе». День-другой спустя сходили на «Картуша», уже впятером. Еще через несколько дней «Стрелы Робин Гуда» смотрели мы вдвоем – я и Пушкин. Потом только попутно поглядывали на афишу и прикидывали, идти на это кино или нет. А там и на афишу перестали обращать внимания. Как-то мы шли с Калитеевским по коридору школы, и мелькнула мысль, может быть в кино сходим. На подоконнике сидел Емельяненко, чем-то сильно недовольный. Кажется, они проиграли в баскетбол и упустили шампанское. Но он кипел не столько из-за бутылки, с его характером было невыносимо само унижение проигравшего. «Володька, не знаешь, какой сегодня фильм?» - спросил я попросту. Он зло сверкнул глазами и процедил: «Путешествие слона по ж-пе таракана». Я еле-еле сдержался, сделал три шага, свернул за угол и захохотал в голос. Больше мы про кино не вспоминали.Раздел 4. Деньги Деньги… Длинный рубль, сказочные заработки. Вожделенная тысяча, которую можно заработать за лето. Для новобранцев такие рассказы заменяли точные сведения. Вернувшиеся из стройотрядов скорее склонны были завышать цифру собственного заработка, чем занижать или приводить точно. Над особо завравшимися смеялись, но в чудодейственность сибирской земли верили. И потому смотрели на ближние отряды как на незаслуженное наказание, или первую ступень, пройдя которую, получишь право на золотой край. И только в отряде я узнал, что есть еще таинственный Воскресенск, который может быть лучше Сибири. Рассказы рассказами, но, приехав в отряд, каждый вдруг осознавал, что на самом деле никто ему ничего не обещал. А уж тем более никто не мог по первым дням в стройотряде оценить «на глазок» светит здесь заработать, или не светит. Обычно в отряде при обсуждении в своем кругу перспектив на заработок, верх брали пессимисты. Никто не боялся «накаркать», но все боялись «сглазить». И в духе закоснелых консерваторов превозносился прошедший сезон. Хвалили, как ловко командир или, там, мастер (имя такое-то) провернул дело, обвел вокруг пальца и обеспечил хороший заработок. Причем не строились иллюзии, что если очень хорошо работать, то деньги будут гарантированы. Все разговоры ходили о нарядах, как бы так хорошо их закрыть. Мало кто видел эти бумаги в натуре, но разговор вели, как заправские специалисты. Командиры же, наоборот, как один доказывали, что не ваше дело говорить о расценках, которых вы все равно не знаете, рассуждать – выгодная или невыгодная работа, в кармане от этого не прибавится. Они считали опасным грехом привлекать к своим делам кого-либо из рядовых бойцов, еще большим, чем хвалить за хорошо, или быстро сделанную работу. И главное, о чем они твердили в один голос, что на халяву никто ничего не получит. Каждую копейку придется отработать. Такая неопределенность обычно тянулась до конца сезона. В массы просачивались весьма разноречивые цифры. Только в Воскресенском отряде существовало правило сообщать итоги недели в тысячах рублей, благо они были внушительные. Внушительные, но иллюзорные, так как это была одна сторона медали. Приходная часть. Чтобы понять, сколько выпадет на руки, недоставало двух существенных категорий: сколько будет вычтено и как поделен остаток. Эти величины оценить было значительно труднее. Практически нереально. Оставалось гадать и надеяться. На что? В первую очередь на репутацию отряда и командира. Васю Перина, например, весь сезон ругали на все корки. Кто с озлоблением, кто с усмешкой. Но, получив по четыре сотни в сентябре, все как прозрели. Вася сразу стал милым, забавным, симпатичным и мудрым. На следующую весну Змейков ходил с блокнотом, «собирая людей» на БАМ, в отряд, которым будет командовать Вася. Что у него был за список, куда делся – неизвестно. Известно, что такой отряд не состоялся. Пришлось искать контакты, и через Буканова кланяться Сорокину, чтобы не обидел и зачислил к себе. Сорокина на БАМе не хвалили даже его бывшие соратники. В сезон 1975 года он был комиссаром и, как рассказывали, всё лето проиграл в волейбол и бадминтон. (Вот только вопрос с кем?). Хороший заработок в «Магистрали 75» приписывали исключительно Толику Ряузову. И вспоминая, как пахали в прошлом году, предсказывали копеечные зарплаты. Но осенью Саня Леонов простодушно подвел итог: «Хороший был отряд. Работали мало, заработали много». Вот и разберись, кто прав. Что рассказывать, как закрывались наряды! Мы видели только то, что плавало на поверхности. Как привечали гостей из трестов, какими порой возвращались наши командиры и мастера, и иногда кто-то из бригадиров. Но разговор об учете каждого забитого гвоздя и каждого вычерпнутого ведра воды все-таки велся. Или для дисциплинирования самих бригадиров, или, может быть, для накопления козырей в завершающей партии. А наряд? «Кто считает эти тройные перекидки? – сказал мне один знакомый бригадир, участвовавший в «деле». – Сделали сто двадцать, а закрыли двести». Но подождем. Может быть, точно расскажет кто-нибудь из тех, кто знал такие «дела» не понаслышке. (Зюзин, Секерин, Будылин, Паршин, Локшин, Свинцов и другие, список тоже не маленький). Если уж говорить с дистанции прожитых лет, дело упиралось не в наряды и необходимость приписки, а в состояние фондов работодателя. Разумеется, химгигант в Воскресенске, как сейчас говорят – градообразующее предприятие, далеко перекрывал по своим экономическим возможностям любой строительно-монтажный поезд или СУ. А наряды служили только обоснованием. Всё определялось тем, есть еще средства, или нет. Если есть – можем подкинуть, а можем попридержать. А если уж нет, растрачены на балаган и показуху – тю-тю. Пиши, не пиши – взять негде. Ведь бюджет, не бездонная бочка, дадут – сколько выделили, а выделят – сколько запланировали и выбили. Если доложено наверх, что работа выполнена, второй раз денег на нее не дадут. Платить будут из того, что выделено на другое, или с каким-то обоснованием дополнительно выбито. Естественно, это будут крохи. Опять же важно для любой стройки, когда попасть в долю. Начало это или конец строительства. Так Камаз, который хотели запустить в 1974, а промучились до 1976, в 1975 году уже исчерпал свои возможности, работал на изысканные резервные отчисления. В этом и состояла задача ССОошных командиров – вовремя сориентироваться. Понять, можно здесь взять столько, сколько надо - или нельзя. Можно – значит попытаться (тоже задача не из легких), а нельзя – искать доп заработок на стороне. Так обстояло дело с приходной частью. Расходы отряда, по определению, казалось бы, не должны были составлять никакой тайны. Вот он штаб, ежедневно делающий эти самые расходы и знающий их до последнего гроша. Но именно эту цифру рядовому бойцу узнать было невозможно. Это была святая святых. Поразительная вещь, на собрании принималось решение об общем котле («коммуна»), устанавливалась норма дневного расхода на питание одного бойца, а вот предложить (только предложить) представлять отряду еженедельный или хотя бы двухнедельный отчет о фактически произведенных расходах никому не пришло в голову. Наивность достойная птиц небесных! Вместо этого, по подаче сверху, избирались уполномоченные ревизионные комиссии, оформлявшие свои проверки, и тем самым дававшие штабу денежноучетные индульгенции. Да и по правде сказать, что могла выловить эта бедная комиссия, если суммы весьма произвольного размера можно было списать рукописным актом с участием любых трех бойцов отряда. На такие акты никто, конечно, не давал разрешения никаким голосованием. Помню единственный случай, когда вынесенная на голосование статья расхода вызвала негодование (но не отказ голосовать). Все тот же тэбэшник Гудков транспортировал железной дорогой в Набережные Челны свой собственный мотоцикл. Требовалось оплатить перевозку. Нам стали объяснять, что эта ЯВА предназначена для служебных поездок и, в конечном счете, дает большую экономию. Когда поднялся крик, вопрос замяли. Существовала великолепная тема для отвлечения страстей отрядного собрания – расходы на курево. Его обычно закупали централизовано, на средства коммуны. Вот и решали, должны ли все оплачивать пристрастия некоторых. Ничего путного в таких случаях не предлагалось, некурящие в душе были против, но помалкивали, зная, что кончится как всегда. Стоит заметить, что на БАМе у нас курящих было только пол-отряда, а в Воскресенске вообще четверть. Внук - Фролов не раз жаловался, как тяжело работать с некурящим бригадиром Михайловым, который забывает о перекурах. А вот на БАМе произошел анекдотический казус: Владек Буйко, по польскому простодушию, предложил для некурящих в пропорциональных размерах закупать конфеты. Проголосовали «за», но больше для смеха; и так было ясно, что конфеты эти никто закупать не собирается, да и не нужны они никому. Но курильщики были искренне возмущены. Курение – жизненная потребность, а конфеты – прихоть, зачем же тратить на них драгоценные отрядные деньги? Итак, о приходе имелось смутное представление, насчет расхода можно было только гадать, а итог вытекал сам собой – остается маловато. И что же, в конце концов, лично твое из этого «маловато». То есть, как делить заработанное, если оно уже получено каждым в кассе и затем сгребено в общий мешок. Ни у кого не вызывало сомнений, что с учетом отработанных дней. Также несомненно, что одних отработанных дней недостаточно. Тут уж каждый чувствовал себя обделенным, легко находя кого-нибудь, кто работал хуже его и заслуживает меньшей оплаты. Каждому подспудно хотелось, чтобы ему дали чуть-чуть побольше, а всем остальным, чтобы никого не обижать – поровну. Помню уникальное комсомольское собрание в Камазовском отряде. Почему комсомольское, обычно же таких не проводили? Припозднился комиссар, а надо проводить собрание. Зато комсорг налицо! Значит, тянуть ни к чему, вместо отрядного пусть будет комсомольское. А уникально это собрание было вот чем : на нем никто не хотел молчать. Все рвались говорить, перебивали друг друга, снова и снова просили слова. То есть картина противоположная обычному собранию. Вся загвоздка заключалась в том, что на этом собрании делили заработок. Очень жаль, что не существует его стенограммы. Еще бы лучше было провести синхронную киносъемку скрытой камерой. Это был бы фильм, достойный любых архивов, вплоть до музеев истории ХХ века. Дело происходило в августе, в сырой и холодный вечер. Собрались в полностью освобожденной палатке, только дощатый пол и тусклая лампочка. Отъехали бойцы, стало просторно в лагере. Заседали стоя, но не в шеренгу, а кто где привалился. В центре внимания Вася Перин. Он действительно мудр, позаботился привезти с собой теплые вещи. В какой-то войлочной тужурке, из-под нее, закрывая горло, темно-синий свитер, на голове – серо-зеленая вязаная шапка, с помпоном. Помпон завалился набок. И сам он весь какой-то съёжившийся, но не от холода, это было бы заметно, а как будто не выспался. Говорит вяло, в нос. Бойцы, кто в чем, телогреек практически ни у кого нет. В основном – черно-оранжевые спецовки поверх свитеров, на некоторых – болоньевые курточки. Ясончик, как монах, в брезентовой накидке с капюшоном. Пучок в ярком трехцветном свитере толстой вязки. Лучше всех устроился Мак – добротный утепленный бушлат, который он скомуниздил где-то в городе. Все шумят, задают вопросы, суть которых сводится к одному – нафига мы тогда все здесь остались. Время от времени Виктор Фролов лениво вставляет комментарии с замысловатыми экономическими терминами. Васька упорно выруливает на одну тему: если нет бригад, каким образом лучше определять размер премии. И категорически не хочет отвечать: а по скольку же нам в конце концов отломится. Через шум, а порой и смех – говорится всякое – собрание подходит к окончательному вопросу: сколько конкретно бойцов премировать и какой процент положить на их премии. Прежде чем на что-то решиться, каждый чувствует в своем мозгу раздвоение; с одной стороны - не продешевить, с другой – не прогадать бы. Неизвестно ведь, кто куда попадет, решает всё тот же штаб. Васька-то, он хитрый, с кем бы наедине не говорил, обычно заверяет: «Да разве ты не заработаешь? Неужели я дам тебе меньше чем «Сидорову»? (Называется не «Сидоров», а кто-нибудь из уехавших, чаще других Егоркин, Чуряев или Алиханов). Выкрикиваются варианты, кто что придумает. Зинченко тоже пытается навести порядок, он все-таки комсорг. Но его реплики ничем не выделяются среди прочих. Наконец проголосовали. Недовольных, оставшихся в меньшинстве, много. Шумят, требуют голосовать еще раз, по-другому. Но Перин между тем приободрился, говорит другим тоном: «Это всё ерунда. Решили, значит решили. А кому не нравится, не держим. Дам денег на билет, и как говорится – гуляй Вася». Фыркнул один, другой, захохотали все. Василий Федотыч недоумевающее переводит взгляд с одного на другого: что смешного он сказал? Потом многозначительно вздыхает – с кем приходится иметь дело. В палатку пролезает комиссар Снисаренко, он где-то отсутствовал и пришел к самому концу. Переглянулся с Васей, тот кивает: все решено. И говорит бодро: «Ну что, закрываем собрание?». Тут Киреев - Командор вдруг спохватывается: «А еще вопрос!» «Какой?» - быстро спрашивает Снисаренко. «Почему газет не бывает?». Генка разводит руками: «Завхоз регулярно покупает газеты. Куда он, правда, их девает?» Завершающий общий смех, всем ясно – куда. И зашевелились, задвигались. Позаседали, пора и на боковую. Кто-то еще пытается говорить, что не договорил на собрании, но слушать уже некому. На БАМе подобного беспокойного собрания не созывали. Вопрос был решен в русле прошлогодних традиций, и имел безусловных сторонников такого решения. Собственно, и в голову никому не пришло, что надо что-то обсуждать. Мы молча к таковому присоединились. А в Воскресенске никаких собраний отряда вообще не было в принципе. На ежедневной утренней линейке до нас доводилась вся, нам положенная информация, в том числе и решения штаба по способу премирования бойцов и бригад. Правда, в самом конце сезона Ряузов зачитал нам не просто итоговую ведомость, как Перин или Сорокин, а полную бухгалтерию. Была составлена таблица, включающая всех бойцов отряда, из многих колонок. То есть, сначала, что кому причитается из заработанного, затем – сколько оставалось у каждого после очередной статьи вычета. Все сидели и слушали, как постепенно таяли суммы, и что выпало в осадок на долю его лично. Не придерешься! Как я уже говорил, в самом начале сезона бойцы ССО были настроены выжидательно, но пессимизм быстро брал верх. Так, отъезд половины камазовского отряда был лишь частично вызван тяжелыми условиями. Немалую роль играло и разочарование в возможности заработать. На БАМе этот общий пессимизм был умереннее, рассчитывали, что тайга хоть в чем-то себя оправдает. Заработок будет на последнем месте среди остальных БАМовских отрядов, но все же хоть немного потянет на сибирский уровень. В Воскресенске все были убеждены в успехе, кто сильнее, кто слабее – но все. А когда получили, радовались прохладненько - хорошо, но хотелось бы хоть чуть-чуть да побольше. Ждали заветной тысячи, которую перетянул разве что Намоконов. Хороший заработок считался заслугой командира, отсутствие денег – его неумением. На строительные организации обычно не грешили, не верили, что за нашу работу нам полагается больше, чем там дают. Только Командор был убежден в недоплате, называл трест Камдорстрой грабиловкой. Собственно, надежда на командирские таланты и была той смягчающей подушкой, позволяющей безропотно и безучастно переносить отсутствие отчетности, произвол в отрядных расходах, возможные злоупотребления своей властью. Думалось – свяжи мы штаб по рукам и ногам, ограничь их действия – просидят голубчики в вагончике всё лето, и палец о палец не ударят. И останемся мы вообще на копейках. А уж себе они как-нибудь сумеют урвать. Ведь не секрет, что бывало всякое. Вылезала вдруг странная недостача при возвращении стройтрестовского имущества, которую необходимо было покрыть. А то и просто теряли портфели с деньгами. Короче, о недобросовестности стройотрядовских командиров ходило не меньше легенд, чем о баснословных заработках. И суммы присвоенных ими денег называли астрономические. Даже по Астрахани. В общем, каждый рассказывал в соответствии с собственным чувством меры.Напоследок приведу историю, которая доказывает, что дыма без огня не бывает. Я хочу вспомнить самый первый шажок в царство МИХМа, свой последний вступительный экзамен. Сдавали мы его на пару с приятелем, который потом не прошел по конкурсу. Назову его просто Виталием. Экзамен мы благополучно сдали, на следующий день я забежал к дружку, и узнал, что тот уехал в институт. Оказывается, после экзамена к нему подошли, как выразился его отец, два субчика. Спросили, сколько набрал баллов, поздравили с поступлением и с места в карьер предложили недельку поработать. Якобы, работать будут все, а он отделается от этой обязанности уже сейчас. Виталька честно отработал неделю на бетонном заводе, в паре, как я потом узнал, с Григорием Божко. Тот тоже попался «субчикам», а отказаться, разумеется, просто не рискнул. Один из этих «субчиков» был пятикурсник Алексей Сухов. Что же мне стало известно из других источников уже на пятом курсе. Таких доверчивых пареньков ловили и поставляли в распоряжение командиров московских стройотрядов. Не обязательно МИХМовских. Те выводили их на объект под именами своих бойцов, и за работу шли реальные деньги. Кому, вопрос риторический. Не хочется заканчивать на дурной ноте. Еще одна история, на этот раз про удачливого стройотрядовца. Сидели мы в шашлычной с Володей Масловым. Подошел к нашему столику парень, спросил огоньку. На нем была стройотрядовская куртка, оформленная уже по-новому, с наклейкой над грудным карманом со знаками различия. Там обычно помещался один, два и более шевронов, в зависимости от уровня штаба. У парня на наклейке значилось ВССО – то есть самый низший уровень. Маслов осведомился несколько свысока, во скольких тот побывал отрядах. Парень не обиделся и пояснил, что они работают по-другому. Куртка только форма. А едут они впятером-вшестером в колхоз, нанимаются что-то строить и зарабатывают за лето 3,5 – 4 тысячи каждый. Без всякого штаба. Короче, смотрите фильм «Кот в мешке». Рукавные нашивки на стройотрядовских куртках у тех кинематографических шабашников и умельцев почему-то МИХМовские. Узнать бы, кто консультировал картину. (конец, точка) |
Воспоминания Александра Тимонина (выпускник МИХМа-1974,группа Н-50) о ССО
| На 1975 год комитет ВЛКСМ вновь получил разнарядку вывести на КАМАЗ отряд численностью 250 человек. Я в это время работал заместителем секретаря комитета ВЛКСМ (в тот период моя должность носила название второй секретарь). Секретарем комитета ВЛКСМ был Владимир Ларченков, с которым нас избрали 29 октября 1974 года в состав комитета ВЛКСМ института. Володя предложил мне возглавить этот отряд, но я ответил, что не потяну одновременно два таких участка работы, поэтому соглашусь только на должность комиссара. Он принял эти доводы, и командиром отряда был утвержден Александр Волков, инженер кафедры коррозии (брат известного хоккеиста Волкова и члена знаменитой тройки сборной страны: Александров, Альметов и Волков). В этот раз отряду поручалось возводить тепличный комплекс в подсобном хозяйстве ПО «КАМАЗ», ремонтировать и строить дороги в г.Набережные Челны. Мы распределили линейные отряды следующим образом: отряд органического факультетов и факультета ХАС под руководством Алексея Сухова должен возводить теплицы, отряд машфака под руководством Василия Першина должен заниматься текущим ремонтом дорого города, отряд факультета криогенной техники под руководством Александра Ковалева должен строить подземные переходы и стоянки общественного транспорта, второй отряд машфака и неорганического факультета под руководством Николая Усачева должен заниматься текущим ремонтом межгородских магистралей и отряд факультета АХП под руководством Николая Будылина должен заниматься возведением подъездных путей на ж/д станции Круглое поле. Отряд А.Сухова жил в полевом палаточном лагере возле тепличного комплекса, отряд Н.Будылина в помещении станции Круглое поле, все остальные отряды жили в палаточном лагере «Кама» в пойме реки Кама в 2-х километрах от города. Это был лагерь на 500 человек, вместе с нашими отрядами проживали отряды первого московского меда, театрального училища им. Щукина, Ереванского пединститута. В целом, в этом лагере условия были значительно лучше. Он был удален от шумных городских магистралей, производственных объектов и жилых массивов города. Все отряды жили в нем дружно, постоянно устраивали спортивные соревнования по различным видам спорта. Я помню, что в футболе не было равных горячей команде из Армении (командир отряда Сурен Оганесян играл в дубле «Арарата»). В волейбол выигрывали мы (капитаном команды был я), медики всех обыгрывали в настольный теннис и бадминтон, щукинцы особо не отличались в спорте, но прекрасно пели песни под гитару, иногда устраивали показательные выступления танцоров. В этом году работа в отряде шла лучше, так как мы работали мелкими отрядами в различных строительных организациях, поэтому нас легче «пережевывали», т.е лучше обеспечивали работой. Районный штаб сначала размещался в лагере «Кама», но затем я почувствовал, что Александр Волков абсолютно не дает свободы действия командирам линейных отрядов. Он проявлял «отеческую» заботу о каждом во всех мелочах, что от такой заботы всем командирам стало тошно. Я уговорил Сашу уехать из лагеря «Кама». У него в городе был хороший знакомый начальник строительного управления Михаил Уманский (Волков работал командиром отряда в этом управлении в 1972 году). Уманский заканчивал строительство жилого дома в городе недалеко от городского штаба ССО и вселил наш штаб в этот дом. Штаб состоял из командира, комиссара, прораба отряда Володи Гудкова, молодого выпускника МИСИ, инженера по технике безопасности Сергея Арутюнова, выпускника нашего вуза 1975 года (в 1972 году он был в отряде Волкова завхозом) и политпропагандиста отряда Александра Елисеева, хорошо известного нам по прошлому году. Уманский одновременно возложив на нас функцию охранников. С этой задачей мы справились прекрасно: дом не потерял за весь период проживания ни одного стекла, не говоря уж о более существенных вещах. Мы координировали работу всех отрядов, особенно следили за соблюдением техники безопасности и санитарно-гигиеническом состоянии отрядов. На КАМАЗе в том году вспыхнула эпидемия дизентерии, она стала «выкашивать» целые отряды. В Набержные Челны вынужден прибыть главный санитарный врач страны с многочисленной свитой. Они особое внимание уделяли студенческим отрядам. Однако беда коснулась отряда Алексея Сухова, у него 5 или 6 человек заболели, хотя и в легкой форме, дизентерией. Может только благодаря организаторскому таланту Алексея (после вуза он быстро достиг должности главного инженера одного из крупных предприятий Подмосковья), удалось остановить эту инфекцию. Он буквально заставил бойцов отряда постоянно мыть руки в воде с хлоркой, помещения и туалеты были в идеальном состоянии. Мы направили в помощь врачу его отряда еще одного врача из лагеря «Кама» (там все-таки жили медики, они не позволили проникнуть инфекции в лагерь). Врачи объясняли ребятам на каждом шагу, что дизентерия болезнь не мытых рук и плохой воды. В лагерях даже для умывания стали использовать только кипяченую воду, все бойцы были обеспечены индивидуальными фляжками. (В таких сложных полевых условиях ковались характер и воля Дмитрия Баранова, рядового бойца ССО, а теперь ректора нашего университета). Это дало результат. Больше больных и бациллоносителей в наших отрядах не обнаруживали. Наиболее спокойная обстановка была в отряде Василия Першина, он так хорошо поставил дело, что мы ему просто были не нужны. Мы закончили сезон без каких-либо серьезных ЧП. Отряд занял 5-е место в соцсоревновании районных отрядов, а на конкурсе агитбригад всех отрядов, работавших на КАМАЗе мы заняли первое место, опередив профессионалов щукинцев. Здесь основная заслуга комиссара отряда Усачева Геннадия Снесаренко, руководителя институтской агитбригады и члена комитета ВЛКСМ вуза. Усачев Николай после окончания института уехал в г.Навои и через несколько лет стал главным механиком химического комбината. (конец, точка) |
............................ФОТОГРАФИИ...........................
Бойцы отряда

Буду признателен,если сообщите подробности и новую
информацию
Место расположения:КАМАЗ,лагерь "Кама"
Время действия-конец июня-середина августа
Объекты строительства
В отряде Усачева работал Агафонкин Володя, с ним мы впоследствии, после окончания, пересекались, он был большой приверженец михмовской парусной секции. Еще трое, после первого курса ТК: Лешка, Сашка и Валерка, все трое – квартирьеры, фамилий не знаю, но Сашка есть на фотографии группы К56 (79), в самом центре (может быть Макаров, других Александров в списке группы нет). ----------------- Владимир Козлов Вроде Агидель. Косачев там командовал. Да, Шабад там комиссарил... Камаз - 75: Козлов (я0. Печатников Ефим, Клейман Илья, Дьяченко Владимир, Большинская Ирина. Ванина Ирина - это все из группы К-24 (т.е. К-14 - законченый 1-ый курс). Остальные все - 50-ки. ----------------- Дормашов Сергей Был в отряде "Агидель", если не ошибаюсь Командир был Усачев, комиссар, по-моему Мишка Шабад. Кроме ТК были ребята с других факов, но может быть это были другие отряды. Помню комиссара Гену Снисаренко, в нашем отряде были, кроме групп К-16 и К-15: Мишка Холопов, Володя Дьяченко,, Борис Солопов, Из других отрядов помню Сергея Шкуратова, Александра Змейкова, Володю Козловского. Макаров учился в пятой группе, я в шестой.Из пятой группы были Зюзин Сергей (умер год назад), Щитов Владимир, Семин Алексей, Вадим Давыдов, Наташа Прусова, Нина Пашкова, Был еще Сергей Давыдов с третьего курса ------------------ Людмила Оводова Привет!Название отряда не помню,возможно ,"Агидель".Помню бойцов:Ирину Большинскую,Ирину Ванину,Андрея Куликова. Кстати,может,кто вспомнит:там было то ли массовое отравление,то ли дизентерия,многие попали в больницу.
............................Список ССО...........................
Из воспомининий ... (выпускник МИХМа-19..,группа ...)
....
| .....(конец, точка) |
............................ФОТОГРАФИИ...........................

|

|

|

|

|

|
||||||

|

|

|

|
Бойцы стройотряда

Буду признателен,если сообщите подробности и новую
информацию
Место расположения:КАМАЗ,лагерь "Кама"
Время действия-конец июня-середина августа
Объекты строительства
В отряде Верхоломова работали Сафронова Наталья (Н58 - 79) и четверо из гидравликов (Т54 -79) Жогин Игорь, Кирюхин Владимир, Ибрагимов Шавкат (попросту – Джавдед) и Кузьмин (Не тот Сергей Кузьмин, что был у нас на БАМе в 1976 , а его однофамилец, тезка и одногруппник. Его мы звали "Колобок", а того – "Черемуха"). В отряде «Кентавр» (Камаз75), кроме перечисленных тобою в списке, были еще Женька Роговой с нашего потока и Андрей Серокулов. Жогина и Кирюхина ты, вероятно, не включил, как незакончивших МИХМ (они из группы Ш.Ибрагимова). А Козицкий Георгий и Раноми Валерий хоть и тоже были в том же отряде, но не михмовцы.
............................Список ССО...........................
Из воспомининий ... (выпускник МИХМа-19..,группа ...)
....
| .....(конец, точка) |
............................ФОТОГРАФИИ...........................
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Бойцы отряда

"Неизвестные" камазовцы

Буду признателен,если сообщите подробности и новую
информацию
Место расположения: палаточный лагерь возле тепличного комплекса
Время действия-конец июня-середина августа
Объекты строительства
............................Список ССО...........................
Из воспомининий ... (выпускник МИХМа-..,группа ...)
....
|
«Ваганты» сформирован на базе органики и ХАСа, стало быть, в нем работали Токпаева, Черемных, Стерман, а соответственно и Баранов
(они со Стерманом из одной группы). А также, по всей видимости, и Володька Белоусов, и Вадим Самсонов.
А также Масленников и Сашка Бабурин (о них в другом абзаце). (конец, точка)
--------------------- Сергей Осипов Был в Вагантах в 1975 году. |
............................ФОТОГРАФИИ...........................

|

|
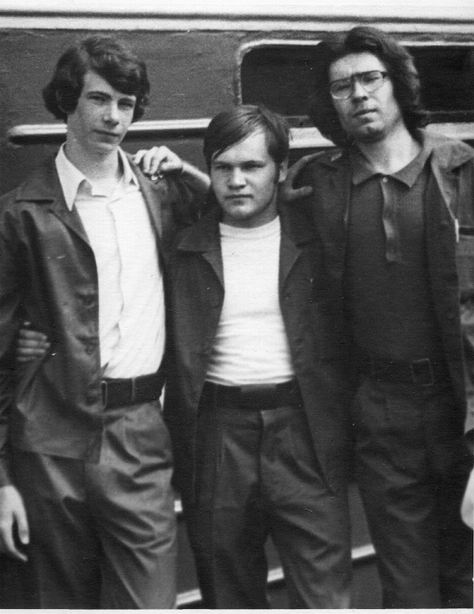
|

|

|

| ||||||

|
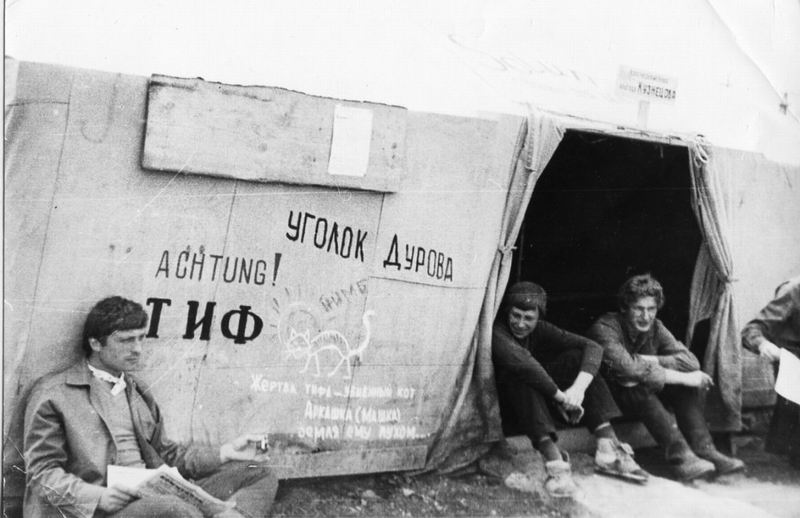
|

| 
| 
| 
| ||||||

|

|

| 
| 
| 
| ||||||

|

|

| 
| 
| 
| ||||||

|

|

| 
| 
| 
| ||||||

|

|

| 
| 
| 
| ||||||

|

|

| 
| 
| 
| ||||||

|

|

| 
| 
| 
| ||||||

|

|

| 
| 
| 
|
Бойцы отряда

"Неизвестные" камазовцы

Буду признателен,если сообщите подробности и новую
информацию
Место расположения: СТАНЦИЯ "КРУГЛОЕ ПОЛЕ"
Время действия-конец июня-середина августа
Объекты строительства
....
............................Список ССО...........................
Из воспомининий ... (выпускник МИХМа-...,группа ...)
....
|
Лидия Лозова (Сиротина) Была на Камазе в 1975 году. Отряд стоял в Круглом Поле, уже точно не помню, кажется "Магистраль". Галина Колосова (Татурина) Саша Татурин - мой муж, был в "Магистрале" в 1975. Командир Будылин. 20:13 |
............................ФОТОГРАФИИ...........................

|

|

|

|

|
 |
|||||

|

|
 |
 |
|

|
Бойцы отряда

"Неизвестные" камазовцы

"Неизвестные" камазовцы
-----------------
Шипулёв Саша
№15 : стройотряд, КАМАЗ, 1975 – Я, Стерман А. (А11), Коля???? (А13).
----------------
Пашенцева знал, но очень поверхностно по стройотряду Камаз-75.
Буду признателен,если сообщите подробности и новую
информацию